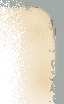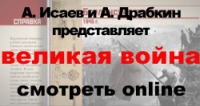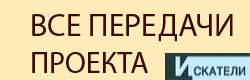27 ноября
Проснулся от неприятного сна, будто я отравился мышьяком. Отравлен своим слугой за обедом. Мне снилось, что, проглотив в вине мышьяк, поняв, что я отравлен, я догадался, кто это сделал, взглянул на виновного, который прятался в каком-то углу, вскрикнул и повалился на руки вскочивших в испуге гостей, уже умирающим. Впечатление смерти было очень сильно. Проснувшись, я посмотрел на часы, было шесть утра. Шла по-прежнему канонада. Я понял, что «Нести» не взяли. Я заснул опять до 8 час. Канонада еще продолжалась, но слабела.
Мы пошли с Юденичем по городу промять ноги. Было очень скользко, и я грохнулся со всего размаха на спину. Больно спине, больно руке.
Сколько домов покинуто, забито досками. Какая брешь нанесена людям этой войной!
По улицам идут солдаты, барышни, мальчишки в школу, торговки, и все время слышим русскую речь.
Юденич мне рассказывал о Кавказе, молоканах, «которые здорово поют», о чудесных фургонах, в которых молокане-извозчики четверкой перевозят громадные грузы. Они много зарабатывают, и гуся у них, напр<имер>, не купить в деревне. Зачем, сами съедим. Юденич был в хорошем настроении духа, шутил, смеялся, потом мы зашли с ним в музей Петра Великого. Я невольно думал, что он... равнодушен к своей армии. Может быть, неравнодушен к русскому делу, и даже наверное, но офицеры и солдаты для него... пустой звук. Я заметил, что невольно стал относиться к Юденичу свысока. Мы встретили двух оборванных красноармейцев, пленных конечно. Юденич не остановился, не спросил их ни о чем, что, наверное, сделал бы, ну... Скобелев! Прошло несколько наших солдат; они не заметили даже Юденича, не узнали его, не знают его, да и откуда им знать его?
Вернувшись домой, он корректировал, редактировал составленную мной для него телеграмму, и я увидел в нем по-прежнему умного и тонкого человека.
Потом приехал Глазенап со своим н<ачальни>ком штаба Самариным. Они были у Лайдонера. «Наглотался я позора, — сказал Глазенап. — Но я готов все мое самолюбие спрятать под каблук, если от этого будет польза для русского дела». Только вот будет ли?
Лайдонер сказал, что вся небольшая польза, которую он видит от русской армии, нивелируется тем громадным вредом, который приносят <1 нрзб>, царящие в тылу. Тысячи голодных, вооруженных людей, готовых обратить свое оружие неизвестно против кого, готовых бунтовать и грабить.
Он категорически и в ультимативном тоне сообщил Глазенапу, что С<еверо>-З<ападная> армия отныне подчиняется во всех отношениях генералу Теннисону. Он потребовал, чтобы в 24 часа были убраны из армии генералы Долгоруков и Пермикин, позволившие себе несдержанно говорить с Теннисоном. Они будут высланы из пределов Эстонии.
Разоруженным дивизиям оружие не будет возвращено, за оказанное ими при разоружении сопротивление и за то, что они отошли на эстонскую территорию без разрешения. (Они отошли, по показанию Д<з>ерожинского, потому, что эстонская армия не давала им сражаться.)
Все учреждения армии будут реорганизованы по его указанию. Эвакуация может быть начата, он укажет для этого пункты. Гражданское население будет размещено в районах для беженцев, военные в Вейсенберге, Корже и Вайвара. Из его слов можно было понять, что они желали бы привлечь на эстонскую службу весь боеспособный элемент С<еверо>-З<ападной> армии, а остальным предоставить уехать куда хотят. Но превращаться в эстонских солдат для защиты эстонской границы или хотя бы для защиты своей собственной шкуры значит отказаться от русского дела.
Юденич созвал совещание. Англ<ийского> полковн<ика> Вильсона (только что женившегося на сестре m-me Родзянко), франц<узского> капитана Вонне (?), Глазенапа, н<ачальни>ка его штаба Самарина и меня. Он изложил, и очень хорошо, положение дела, сказал, что, отказывая в разрешении пополнять армию запасными, ее обрекают на исчезновение, что ей предоставляют только право умирать, защищая границы Эстонии, и просил поддержать перед своими правит<ельст>вами существование русской армии и гарантировать приемлемые для нее условия или, если это невозможно, помочь перевезти армию на другой фронт.
Юденич решился поехать в Ревель для переговоров с Правительством. Все поздно. И телеграмма, которую послали союзники, запоздала. Поздно! Поздно!
Но я тоже решил, что поеду. Положение на фронте скверное, но оно может протянуться Бог знает сколько времени. «Китобой» ушел, слава Богу. Надо выяснить вопрос о дальнейшем его бытии.
Я быстро собрался. Неловко было как-то уезжать и бросать здесь «офицериков». Так здесь... неуютно, но Тыртов мне сказал: «Никто о Вас ничего худого не подумает, а если и будут говорить, так черт с ними».
Но мне визы не дали. Это выяснилось в последний момент, уже в полночь. Милый Алексеев был так любезен, что пошел доставать мне разрешение. Он франц<узский> лейтенант, и ему это удалось. Да! Много унижений приходится переживать.
Юденич решил ночевать в вагоне, и в два часа ночи мы переехали в поезд. По дороге обогнали батарею, двигавшуюся на позиции.
Я немедленно лег спать, радуясь, что тепло, что есть свет, а то все последнее время приходилось спать в холоде и полутемноте.
<< Назад
Вперёд>>
Просмотров: 3936