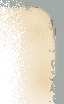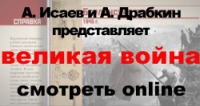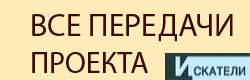Верховный правитель покинул Омск за несколько часов до того, как в город вошли красные. Его министры, отправившись в путь четырьмя днями ранее, почти добрались до Иркутска, но сочли местную расстановку сил неблагоприятной. Чехословацкий национальный совет, по меньшей мере его русская секция, только что публично выразил недоверие правительству Колчака и осудил его методы. Пользующиеся влиянием в этом регионе социал-революционеры и меньшевики отвергли идею коалиции, возглавляемой адмиралом. Беглые министры сформировали временный кабинет, но поскольку он не имел ни властных полномочий, ни общественной поддержки, ни административных органов, Сибирь, по существу, осталась без правительства.
Колчак (в сопровождении Тимиревой), его штаб, свита и отборная охрана ехали в шести железнодорожных составах (один из них – бронепоезд). В седьмом эшелоне находился золотой запас. Огромное сокровище занимало двадцать девять товарных вагонов. Комендант поезда и чиновники Государственного банка ехали в пассажирском вагоне в середине состава. Этот вагон имел телефонную связь с двумя теплушками (одна в голове и другая в хвосте поезда) с вооруженной охраной.
Карта № 3. Восточная Сибирь и Маньчжурия. Разные свидетели по-разному оценивают груз (кроме золота, там были платина и серебро) на этой стадии, но вряд ли его истинная стоимость так уж важна. Небольшая часть государственного золотого запаса, первоначально захваченная в Казани, давно была переправлена через Владивосток в Гонконг и была там продана для пополнения омской казны. Возможно, весьма близки к истине истории о том, что Семенов пропустил груз через подконтрольную ему территорию лишь после того, как захватил какую-то его часть. В мае 1919 года британское правительство одобрило проект о займе в 10 миллионов фунтов стерлингов, предоставляемом омскому правительству крупной банкирской фирмой лондонского Сити. Правда, неизвестно, что из этого вышло и участвовало ли в сделке упомянутое золото. Важно то, что, когда Колчак, преследуемый по пятам Красной армией, покинул Омск, в его конвое был поезд с сокровищем, по самым скромным оценкам, стоившим 50 миллионов фунтов стерлингов.
Верховный правитель (чьи собственные финансовые запасы на тот момент составляли 30 тысяч быстро обесценивающихся рублей) считал золотой запас своим талисманом. Еще в августе Нокс, Жанен и верховные комиссары, почувствовав приближение катастрофы, убеждали Колчака переправить золотой запас на восток, пока есть время, и предлагали охрану из солдат Антанты. Колчак отказался. «Если я передам золото международной охране, а со мной случится какое-нибудь несчастье, – пророчески заявил он Ноксу, – вы скажете, что это золото принадлежит русскому народу и отдадите его любому новому правительству, которое вам понравится. Пока золото у меня, я могу бороться с большевизмом еще три года, даже если вы, союзники, меня покинете».
Его опасения, безусловно, имели основания. К тому же из-за активности партизан и сомнительной лояльности персонала железной дороги любая попытка перевезти золото была весьма рискованной, и в любом случае в Центральной Сибири не было места безопаснее, чем Омск. Тем не менее в упрямстве, с которым Колчак цеплялся за золотой запас, виделось нечто детское. Неотправленное во Владивосток золото не имело никакой ценности, разве что продавать его частями, как контрабанду. Только доверившись союзникам, можно было провезти его в целости и сохранности через забайкальские владения Семенова. Колчак вел себя как собака на сене, но его политика сохранения золота во что бы то ни стало не имела перспектив. Включив состав с золотом в свой медленно передвигавшийся кортеж, он просто увеличил цену собственной головы и сократил свои шансы на спасение.
Министры, покинувшие Омск 10 ноября, проехали 2400 километров до Иркутска за девять дней. Ужасающее состояние железной дороги усугублялось морозами и быстро становилось катастрофическим. Кроме того, уже было поздно исправлять две самые страшные ошибки – задержки по зарплате железнодорожникам (некоторым задолжали за три месяца) и нехватку угля по всей линии. На участке примерно в 480 километров от станции Тайга до Красноярска топлива не было вообще, и поездам приходилось ждать, пока не доставят уголь с востока или из угольных шахт близ Тайги.
Раньше, в том же году, эвакуация Екатеринбурга и других уральских городов сопровождалась хаосом и страданиями. Потом настало лето. Когда из-за поломки или по какой-либо другой причине замирала вереница поездов в полтора километра длиной, пассажиры выходили из переполненных вагонов, разжигали костры, кипятили чай, обменивались новостями с обитателями соседних вагонов. По собственному опыту путешественники знали, что отстать от поезда практически невозможно. Даже если машинист пребывал в дурном настроении и не давал сигнала к отправлению, поезд был таким перегруженным, а локомотив – таким дряхлым, что можно было легко догнать состав прежде, чем он набирал скорость, и в любом случае он не уходил далеко и снова останавливался.
В общем, пока над цветущей равниной пели жаворонки, играли в свои игры дети, бегали собаки, легко одевались женщины, любили друг друга влюбленные и почти все давили вшей, беженцы с присущей русскому человеку жизнерадостностью старались забыть о трагедии и наслаждались праздником на лоне природы. Время от времени мимо них проползал на запад эшелон с пополнением или военным снаряжением, важно посвистывая и возрождая в отдыхающих смутную надежду на победу.
С очередной зимой все стало иначе. Уже ни один поезд не проходил на запад. Обе колеи монополизировали беглецы из Омска. Железная дорога, которая должна была служить фронту, в приоритетном порядке пропускала поезда на восток. Они двигались достаточно медленно, а часто не двигались вообще.
В жуткие морозы, как только заканчивалось топливо, двигатель замерзал, а трубы и бойлер взрывались. Насосы водокачек из-за морозов вышли из строя, и, если не попадался незамерзший колодец, пассажиры выстраивались цепью и наполняли бойлер снегом – изнурительный и длительный процесс. Печки в теплушках и обветшалых пассажирских вагонах поглощали огромное количество дров, а если топить было нечем, пассажирам грозила смерть от переохлаждения. Еды было мало, а уборных не было вообще.
Рядом и пониже железнодорожной
магистрали вился
тракт – старая Сибирская дорога, а ныне широкая лента утрамбованного снега от 60 сантиметров до полутора метров глубиной. По ней на санях, верхом или пешком на восток вяло тянулся людской поток. Неукомплектованные полки, эскадроны, насчитывавшие десятка два кавалеристов, артиллеристы с демонтированными пушками на санях, отряды солдат без офицеров, отряды офицеров без солдат – жалкие остатки армии. Вперемешку с солдатами, борясь с ними за крышу над головой, фураж, еду и топливо, тащились беспорядочные группы гражданских лиц – те, кому не посчастливилось достать место в поезде или чей поезд уже застрял на путях: крестьяне с изможденным скотом, дети из сиротских приютов, сумасшедшие, дезертиры.
Бредущие по тракту смотрели вверх на проходящие поезда, как жертвы кораблекрушения на плотике смотрят на проходящий мимо лайнер, зная, что он не остановится подобрать их. Пассажиры поездов смотрели вниз на тракт с разными чувствами в зависимости от того, двигался их поезд или стоял на месте. Если состав стоял, вид соотечественников, движущихся, пусть с трудом, но к спасению, наполнял их безотчетной завистью и дурными предчувствиями. Вспоминая увиденнные обломки поездов, потерпевших крушение, думая о нападениях партизан, боясь попасть в окружение при наступлении Красной армии, пассажиры чувствовали себя пойманными в западню, брошенными и проклинали себя за то, что доверились железной дороге. Но если поезд двигался вперед, а в печке трещали дрова, то они смотрели на сгорбленных, облепленных снегом скитальцев внизу без угрызений совести. Жалость атрофируется в ситуации «спасайся кто может».
На станциях новые толпы потенциальных беженцев тщетно пытались пробиться в поезда, коих из-за поломок становилось все меньше. В кабинетах начальников вокзалов бушевали споры из-за того, кто более других достоин билета. Ремонта или замены неисправных локомотивов добивались взятками и угрозами. Телефонные линии, не справлявшиеся даже с официальными переговорами железнодорожного персонала, были забиты отчаянными личными вызовами. Мрачные пропагандистские плакаты, расписывающие зверства большевиков и предназначенные стимулировать мобилизацию, лишь еще больше подрывали моральный дух злополучных растерянных путешественников. На большинстве вокзалов завели места для отчаянных объявлений; как в море бросали запечатанную бутылку с призывом о помощи, так к стене прикалывали записки в надежде восстановить связи между изгнанниками и миром, с которым они разлучались.
«Дорогая Маша, я уехал с эшелоном № 408 11 ноября. Буду ждать тебя и детей в доме Петрова, Большой проспект, дом 12, Иван». Отсутствие фамилии симптоматично. В атмосфере террора и подозрительности фамилии в объявлениях не указывали.
Печальная участь постигла многие тысячи лошадей, вовлеченных в отступление. В самые сильные морозы их ноздри приходилось размораживать через каждые несколько метров. Фуража не хватало по всему тракту, а крестьянам, жившим поблизости, все труднее было покупать запасы в более отдаленных деревнях, поскольку омские бумажные рубли почти совсем обесценились. Найти кров стало практически невозможно; годились коровники и конюшни, лишь бы не провести ночь на морозе. Почти все беженцы несли или катили огромные тяжести и, измучившись, в конце концов почти всю ношу бросали на дороге.
Города и деревни были полны брошенных лошадей. Британский офицер, попавший в руки большевиков в Красноярске, оставил такое описание их плачевного положения: «Они были кротки, как домашние собачонки, но ни у кого не находилось времени погладить им морды. Они стояли на улицах, размышляя над удивительной переменой в своей жизни. Они устало тащились по глубокому снегу. Конские табуны чернели на дальних холмах».
Поскольку только что установленная советская власть объявила всех этих лошадей государственной собственностью и установила строгие наказания за их незаконное присвоение, запуганное население шарахалось от дружелюбных животных. В конце концов 5 тысяч лошадей умерли от голода. Их мясо, шкуры и хвосты тайно разбирали. Остатки государственной собственности оставались в снегу и, когда началась оттепель, стали источником инфекций.
В последних эшелонах страх перед преследующей по пятам Красной армией не отступал, но, если, благодаря слухам, вспыхивала паника, она быстро утихала. Более постоянной, более настойчивой и гораздо более острой была боязнь заболеть тифом. Невозможно даже приблизительно сказать, сколько десятков тысяч людей умерло в ту зиму от тифа. В одном только Новониколаевске с ноября по апрель от тифа умерло 60 тысяч человек.
«Чрезвычайно трудно победить болезнь в Сибири из-за повсеместно неадекватного медицинского обслуживания, антисанитарии в местных жилищах и негигиеничных привычек населения», – писали авторы монографии, материал для которой собирался под эгидой британского МИДа во время интервенции. К зиме 1919 года система здравоохранения совершенно развалилась на огромных территориях. Личная гигиена никогда не была сильной стороной русских, и в переполненных поездах лишь немногие даже из самых обеспеченных беженцев мыли руки или меняли белье. Вши, разносчики тифа, кишели в древесине запущенных железнодорожных вагонов, в рваном солдатском обмундировании, в крестьянских тулупах, в шубах спекулянтов. Мужчины, женщины и дети мерли, как мухи.
Среди сорванного с места населения и отступающей армии болезнь не щадила никого. «Тиф, – писал один британец, свидетель эпидемии, – рождает в здоровых страшную, нечеловеческую ненависть к заболевшим, словно они убийцы, покушающиеся на чью-то жизнь». Когда узнавали или просто подозревали, что в подходящем к станции санитарном или другом каком поезде есть тифозные больные, железнодорожное начальство делало все возможное, чтобы пропустить его без остановки, совершенно не принимая во внимание, что пассажирам необходима помощь, продукты или лекарства.
Часто люди, оказавшиеся в изоляции, умирали целыми вагонами. Никто не знал, сколько людей убил именно тиф, а сколько слишком слабых, чтобы топить печку, – холод.
Все трупы раздевали и, поскольку они быстро деревенели на морозе, складывали, как дрова. Нескольким британцам, попавшим в плен к Красной армии, довелось из толпы наблюдать этот процесс. Один из них отметил, что «офицеры и солдаты, испытавшие самые страшные ужасы войны во Франции, были потрясены этим зрелищем, а толпа, в которой они стояли, казалось, не испытывала ничего, кроме любопытства». С мертвыми обращались без всякого уважения, что странно для глубоко религиозного народа. «Я видел в России один-единственный гроб – в польской церкви в Новониколаевске, а в саваны заворачивали только мертвых детей».
С тех самых пор, когда тридцать лет назад правительство Александра III начало работу над проектом строительства связующей цепи между Европейской Россией, Восточной Азией и Тихим океаном, Транссибирская железная дорога казалась внешнему миру грозным символом территориального захвата. Подданным Александра и его сына магистраль представлялась по меньшей мере главным национальным достижением, подвигом, который просто не может не изменить к лучшему жизнь огромной части нашей планеты. Как ни смотреть на этот проект – с надлежащей гордостью или, как оказалось, с излишней тревогой, – с политической, стратегической или экономической точки зрения, нельзя отказать Транссибирской железнодорожной магистрали в величии и почти жюль-верновской фантастичности.
Теперь, менее чем через двадцать лет после завершения, эта главная транспортная артерия, этот символ имперской мощи и имперского предвидения потерял свое предназначение и свое величие. Вызывающая чувство гордости железная дорога стала
крестным путем, длинной узкой сценой, на которой разыгрывались бесчисленные трагедии. С черепашьей скоростью сквозь смертельную зиму она несла неизмеримый груз страданий и деградации. В странных и ужасных декорациях, растянувшихся на сотни километров безлюдной территории, не было надежды на спасение. Горе и нищета, трусость и страх, холод, трупы и экскременты – спутники белой эмиграции. Лишь у бесчисленных ворон, облепивших голые деревья вдоль магистрали и распушивших на морозе перья, была причина с удовлетворением следить за ползущими мимо вагонами.
Семь поездов верховного правителя, каждый из которых имел два локомотива, двигались медленно. Хотя зарезервированная для приоритетного транспорта железнодорожная колея была не так сильно забита поездами, ее часто использовали санные повозки с тракта. Поэтому на покрытых утрамбованным снегом рельсах колеса проскальзывали и поезда теряли скорость.
Колчак все еще выполнял обязанности правителя. 21 ноября он учредил – на бумаге – Верховное совещание. Как, по его мнению, оно отличалось бы или работало лучше, чем его собственное уже дискредитированное, но еще существующее правительство, гадать бессмысленно. 25 ноября он узнал подробности враждебного ему чешского меморандума, изданного в Иркутске двумя неделями ранее
[37], и послал шифрованные инструкции своим министрам разорвать с чехами всяческие отношения и заставить союзников организовать их срочную эвакуацию. Поскольку срочная эвакуация и без того стала главной целью легиона, но союзники были не в силах ее ускорить, зато чехи могли перехватить и расшифровать унизительную телеграмму Колчака, ее отправка видится абсолютно бесполезной.
Генерал Жанен, чей личный поезд шел впереди последнего эшелона 6-го чешского полка, покинул Омск 8 ноября. Перед отъездом состоялась его прощальная беседа с Колчаком. Как телеграфировал Жанен в Париж, Колчак пребывал «в странном невротическом возбуждении. Вероятно, утверждения о том, что он кокаинист, верны». Жанен прибыл в Новониколаевск 13 ноября и в течение пяти дней старался ускорить продвижение на восток чехов и польской дивизии численностью около 12 тысяч человек, которая должна была замыкать исход легиона. Поляки идеализировали ситуацию. Они достали и предполагали взять с собой 4 тысячи лошадей и надеялись договориться с большевиками, чтобы те пропустили их домой прямой дорогой через Россию. Жанен был о поляках весьма низкого мнения.
18 ноября новости о том, что Гайда накануне попытался совершить во Владивостоке государственный переворот, повергли Центральную Сибирь в еще большее уныние и смятение. Сия неумелая попытка завершилась орудийной перестрелкой близ доков между бронепоездом Гайды под развевающимся зелено-белым колчаковским флагом и несколькими русскими торпедными катерами в гавани, которым с суши помогали Калмыков со своим бронепоездом и его японские покровители. После довольно длительной беспорядочной стрельбы под проливным дождем легко раненный в ногу Гайда сдался. Он дал обещание оставить Россию навсегда и был допущен на корабль, но перед этим, как говорят, его сильно избили русские офицеры. Розанов, военный губернатор Владивостока, успевший ранее в том же году прославиться своей жестокостью в Красноярске, привычно грозился отомстить.
В тот же день (18-го) Жанен уже собирался покинуть Новониколаевск, когда получил телеграмму из поезда верховного правителя с просьбой подождать его, Колчака, прибытия. Начальник штаба Жанена ответил, что это невозможно, мол, они вот-вот отправятся в Иркутск. «Он был совершенно прав, – писал позже главный военный представитель союзников Колчака. – После катастрофы, ответственность за которую несли адмирал и его окружение, я счел бы встречу тягостной». Ясно, а далее станет еще яснее, что Жанен перестал тревожиться о судьбе Колчака.
Сибирь ополчилась на белых. Партизаны, уже серьезно угрожавшие железнодорожной магистрали и защищавшим ее войскам, проявляли не столько пробольшевистские, сколько антиколчаковские настроения. У соратников адмирала осталось мало иллюзий относительно его способности спасти положение. В подобных обстоятельствах удивительно, что никто не предпринял серьезных попыток сместить верховного правителя или хотя бы покинуть его. Даже в час унизительного поражения он растерял не все свое обаяние, сохранил властность и все еще оставался объектом редких в такой ситуации надежд и верности. На станции Тайга, куда кортеж прибыл 7 декабря, Колчака встретили его премьер-министр Виктор Пепеляев, приехавший из Иркутска, и его брат Анатолий, командовавший остатками Сибирской армии. К ним присоединился претендующий на звание защитника Омска Сахаров. Ночь прошла во взаимных обвинениях. Колчак хотел подать в отставку, но его отговорили. Под утро поезда вновь двинулись в путь, а Пепеляев арестовал Сахарова за плохое влияние на верховного правителя. Сахарова освободили на следующий день, когда в Тайгу вошел Каппель. Самое же главное значение этого тайного совещания, незаметного, но претенциозного, состоит в том, что после его окончания Колчак по всем правилам политики Белого движения должен был быть смещен с поста, но все еще оставался во главе своего умирающего режима.
13 декабря в Мариинске ее величество судьба – хотя никто тогда этого не осознал – начала надолго растянутый процесс вынесения приговора Колчаку. Скромным орудием в ее руках был младший офицерский чин управления военных сообщений Чехословацкого легиона Штейнцель. Подчиняясь приказам из Иркутска, этот офицер настоял на переводе эшелонов верховного правителя с приоритетной на перегруженную железнодорожную колею и заявил ответственному за кортеж русскому инженеру, что если эшелоны вернутся на приоритетную колею, то дорогу им преградит бронепоезд. Более того, чешский штаб в Мариинске, сперва наотрез отказавшись снабдить поезда углем, в конце концев выделил количество, совершенно недостаточное для нужд кортежа.
Генерал Занкевич, генерал-квартирмейстер Колчака, послал телеграмму с протестом Жанену, который, как и главнокомандующий чехов Сыровой, находился в то время в Иркутске. Занкевич жаловался, что к ним не прикреплен чешский офицер связи, а назначить такого может только главнокомандующий. Как правило, доносил Занкевич, от чехов нет никакой помощи, наоборот, он сталкивается с открытой враждебностью. В результате за последние четыре дня преодолено всего лишь 140 километров.
Верховный правитель и его спутники в бессильной ярости наблюдали, как их семь составов переводят на общую линию. Говорят, правда, что до станции Боготол двигались относительно хорошо, и все предположили, что к тому времени, как они доберутся до Боготола, бюрократическому произволу, жертвами коего они стали, будет положен конец.