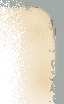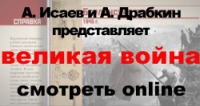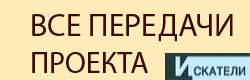Если в Петрограде большевики торжествовали победу, то их беды в остальной части страны только начинались. После своего бегства Керенскому удалось собрать вокруг себя небольшой отряд казаков. 9 ноября он во главе их двинулся к Петрограду, поставив перед собой первой целью Царское Село.
В это же время и Джон Рид, как всегда оказавшись в центре событий, прибыл в Царское Село. Когда кризис был близок к своему пику, он встретился с двумя русскими, которые вели жаркий спор на тему, что представляет собой новое правительство большевиков.
«Мы пошли в город. У выхода из вокзала стояло двое солдат с винтовками и примкнутыми штыками. Их окружало до сотни торговцев, чиновников и студентов. Вся эта толпа набрасывалась на них с криками и бранью. Солдаты чувствовали себя неловко, как несправедливо наказанные дети.
Атаку вел высокий молодой человек в студенческой форме, с очень высокомерным выражением лица.
«Я думаю, вам ясно, – вызывающе говорил он, – что, поднимая оружие против своих братьев, вы становитесь орудием в руках разбойников и предателей».
«Нет, братишка, – серьезно отвечал солдат, – не понимаете вы. Ведь на свете есть два класса: пролетариат и буржуазия. Так, что ли? Мы…»
«Знаю я эту глупую болтовню! – грубо оборвал его студент. – Темные мужики вроде вот тебя наслушались лозунгов, а кто это говорит и что это значит – это вам невдомек. Повторяешь, как попугай!..» В толпе засмеялись… «Я сам марксист! Говорю тебе, что то, за что вы сражаетесь, – это не социализм. Это просто анархия, и выгодно это только немцам».
«Ну да, я понимаю, – отвечал солдат. На лбу его выступил пот. – Вы, видно, человек ученый, а я ведь простой человек. Но только думается мне…»
«Ты, верно, думаешь, – презрительно перебил студент, – что Ленин – истинный друг пролетариата?»
«Да, думаю», – отвечал солдат. Ему было очень тяжело.
«Хорошо, дружок! А знаешь ли ты, что Ленина прислали из Германии в запломбированном вагоне? Знаешь, что Ленин получает деньги от немцев?»
«Ну, этого я не знаю, – упрямо отвечал солдат. – Но мне кажется, Ленин говорит то самое, что мне хотелось бы слышать. И весь простой народ говорит так. Ведь есть два класса: буржуазия и пролетариат…»
«Дурак! Я, брат, два года высидел в Шлиссельбурге за революцию, когда ты еще стрелял в революционеров да распевал «Боже, царя храни»! Меня зовут Василий Георгиевич Панин. Ты обо мне никогда не слыхал?»
«Не слыхал, извиняюсь… – смиренно отвечал солдат. – Я ведь человек неученый. Вы, должно быть, большой герой…»
«Вот именно, – уверенно заявил студент. – И я борюсь с большевиками потому, что они губят Россию и нашу свободную революцию. Что ты теперь скажешь?»
Солдат почесал затылок. «Ничего я не могу сказать! – Его лицо было искажено умственным напряжением. – По-моему, дело ясное, только вот неученый я человек!.. Выходит словно бы так: есть два класса – пролетариат и буржуазия…»
«Опять ты с этой глупой формулой!» – закричал студент.
«…только два класса, – упрямо продолжал солдат. – И кто не за один класс, тот, значит, за другой…»
В середине экскурсии по дворцам Царского Села Рид случайно попал в лагерь антибольшевистских сил, но благодаря своей обычной удачливости и старорежимной вежливости какого-то царского офицера благополучно выпутался из неприятностей:
«Мы прошли в ворота огромного Екатерининского дворца, вошли за ограду и спросили, где здесь штаб. Часовой, стоявший у дверей изогнутого белого крыла здания, сказал нам, что комендант находится где-то внутри.
В изящном белом зале, разделенном на неравные части двусторонним камином, беспокойно переговаривалась группа офицеров. Все они были бледны и рассеянны и явно не спали ночь. Мы подошли к одному из них – седобородому старику в увешанном орденами мундире; нам сказали, что это сам полковник. Я показал ему наши большевистские удостоверения.
Он казался изумленным. «Как же вы добрались сюда живыми? – вежливо спросил он. – Сейчас на улицах очень опасно. В Царском Селе кипят политические страсти. Сегодня утром был бой, а завтра утром опять будут драться. Керенский войдет в город к 8 часам».
«А где же казаки?»
«Так в миле отсюда, вон в том направлении». – Он взмахнул рукой.
«И вы будете защищать от них город?»
«О нет, дорогой мой! – Он усмехнулся. – Мы держим город для Керенского».
У нас упали сердца, потому что в наших мандатах удостоверялась наша глубокая революционность. Полковник откашлялся.
«Кстати, о ваших пропусках, – продолжал он. – Если вас поймают, то вы окажетесь в большой опасности. Поэтому если вы хотите видеть бой, то я прикажу отвести вам комнату в офицерской гостинице. Приходите ко мне завтра в 7 часов утра, я дам вам новые пропуска».
«Значит, вы за Керенского?» – спросили мы.
«Ну, не совсем за Керенского. (Полковник, видимо, колебался.) Видите ли, большинство солдат нашего гарнизона – большевики. Сегодня после боя они ушли в Петроград и увели артиллерию. Можно сказать, что ни один солдат за Керенского не встанет. Но многие из них вовсе не хотят драться. Что до офицеров, то почти все они уже перешли к Керенскому или просто ушли. А мы… гм… мы, как видите, находимся в самом затруднительном положении…»
Мы не поверили, что здесь будет какой-либо бой… Полковник любезно послал своего ординарца проводить нас на станцию. Ординарец был южанин. Он родился в Бессарабии в семье французских эмигрантов.
«Ах, – повторял он, – я не думаю ни об опасности, ни о лишениях. Но я так долго не видал моей бедной матери… Целых три года…»
Мчась в Петроград сквозь холод и мрак, я видел через окно вагона кучки солдат, жестикулирующих вокруг костров. На перекрестках стояли группы броневиков. Их водители перекрикивались между собой, высовывая головы из башенок.
Всю эту тревожную ночь по холодным равнинам блуждали без предводителей команды солдат и красногвардейцев. Они сталкивались и смешивались между собой, а комиссары Военно-революционного комитета торопились от одной группы к другой, пытаясь организовать оборону…»
Живописная кампания Керенского скоро рассыпалась в прах, не выдержав натиска пропаганды, которую большевики вели в его войсках, сочетая ее с самыми настоящими перестрелками в районе Царского Села. В своем рапорте полковник Муравьев подчеркивает именно военный аспект:
«Всем Советам рабочих и солдатских депутатов.
30 октября, в ожесточенном бою под Царским Селом, революционная армия наголову разбила контрреволюционные войска Керенского и Корнилова.
Именем революционного правительства призываю все вверенные полки дать отпор врагам революционной демократии и принять все меры к захвату Керенского, а также к недопущению подобных авантюр, грозящих завоеваниям революции и торжеству пролетариата.
Да здравствует революционная армия!
Муравьев».
После победы большевиков Рид снова вернулся в Царское Село, где встретил Дыбенко, моряка, председателя Центрального комитета Балтийского флота, который уже упоминался на этих страницах. Кроме того, Рид встретился и с теми двумя офицерами, которые были так любезны с ним во время предыдущего визита в Царское.
«Так доехали мы до Царского, где шумно расхаживали герои пролетарских отрядов. Теперь дворец, в котором заседал Совет, был местом делового оживления. Во дворе толпились красногвардейцы и матросы, у дверей стояли часовые, беспрерывно входили и выходили курьеры и комиссары. В помещении Совета кипел самовар, более пятидесяти рабочих, солдат, матросов и офицеров стояли вокруг него, пили чай и громко разговаривали. В углу двое непривычных к этому делу рабочих пытались пустить в ход ротатор. У стола, стоявшего в центре, огромный Дыбенко склонился над картой, отмечая красным и синим карандашом расположение войск. В свободной руке у него, как и всегда, был большущий револьвер синей стали. Потом он сел за пишущую машинку и стал стучать одним пальцем. Прекращая работу хотя бы на минуту, он снова брал револьвер и любовно вертел его барабан.
У стены стоял диван, на котором лежал молодой рабочий. Двое красногвардейцев склонились над ним, но прочие не обращали на него никакого внимания. Он был ранен в грудь; при каждом ударе сердца сквозь его одежду проступала свежая кровь. Глаза его были закрыты, молодое лицо, окаймленное бородкой, стало зеленовато-белым. Он дышал медленно и трудно и при каждом вздохе шептал: «Мир будет… Мир будет…»
Дыбенко взглянул на нас. «А! – сказал он, увидев Бакланова. – Не угодно ли вам, товарищ, отправиться в комендантское управление и принять там дела? Погодите, сейчас я напишу вам мандат».
Он подошел к машинке и принялся медленно выстукивать букву за буквой.
Вместе с новым комендантом Царского Села я отправился в Екатерининский дворец. Бакланов был очень возбужден и полон сознания своей роли. В том самом белом зале, где я уже был в прошлый приезд, мы застали нескольких красногвардейцев, с любопытством оглядывавшихся кругом, в то время как мой старый знакомый полковник стоял у окна и нервно кусал усы. Он приветствовал меня, словно без вести пропавшего брата. За столом у двери сидел француз из Бессарабии. Большевики велели ему оставаться здесь и продолжать свою работу. «Что мне было делать? – шептал он мне. – В такой войне, как эта, люди, подобные мне, не могут драться ни на той, ни на другой стороне, какое бы инстинктивное отвращение они ни чувствовали к диктатуре черни… Мне только жаль, что я нахожусь так далеко от моей матушки, оставшейся в Бессарабии!»
Бакланов официально принимал дела от старого коменданта. «Вот ключи от стола», – нервно сказал полковник.
Один из красногвардейцев перебил его. «А где деньги?» – резко спросил он. Полковник казался удивленным. «Деньги? деньги?.. Ах, вы говорите о денежном ящике!.. Вот он, в том самом виде, как я получил его три дня назад. Ключи?.. – Полковник пожал плечами. – Ключей у меня нет».
Красногвардеец улыбнулся хитрой улыбкой. «Ловко!» – сказал он.
«Откроем ящик! – сказал Бакланов. – Принесите топор! Вот здесь американский товарищ. Пусть он собьет замок и запишет, что окажется в ящике».
Я взмахнул топором, деревянный ящик оказался пустым. «Арестовать его, – злобно сказал красногвардеец. – Он за Керенского. Он украл деньги и отдал их Керенскому».
Бакланов не соглашался. «Нет, – ответил он. – Ведь до него здесь были корниловцы. Он не виноват».
«Черт побери! – кричал красногвардеец. – Говорю вам, он за Керенского! Не арестуете его вы, так арестуем мы! Мы отвезем его в Петроград и посадим в Петропавловку. Туда ему и дорога!» Остальные красногвардейцы поддержали его. Полковник печально взглянул на нас, и его увели…»
К 14 ноября Керенский и его небольшой казачий отряд были окружены и почти полностью разбиты. Даже те казаки, которые оставались с ним до конца, не удержались от искушения поинтриговать против него и поддались влиянию большевистской пропаганды, потому что Керенский с ужасом обнаружил, что они заключили соглашение с Дыбенко: в обмен на свою безопасность они передают Керенского большевикам. Почти чудом ему удалось скрыться из Гатчины и дальше – из России. Он оставил политическую сцену столь же мелодраматично, как возник на пике своей краткой карьеры в роли главы государства.
«Выхода не было. Никаких мер личной охраны я не принимал. Никаких подготовительных действий на случай выезда из Гатчины не делалось. Для вооруженной борьбы нас было слишком мало – менее десятка! Уйти из дворца невозможно, – построенное Павлом I в виде замкнутого прямоугольника здание имело только один выход, уже занятый смешанным караулом из казаков и матросов. Пока мы рассуждали, как выйти из этого тупика, как выскочить из этой ловушки, явился один из бывших служащих дворца с предложением помощи. По своим служебным обязанностям он знает тайный, никому не известный подземный ход, который выходит в парк за стенами этого дворца-крепости. Но чтобы пройти к этому тайнику, нужно ждать сумерек. Что же?! Если до этого времени ничего не случится, мы уйдем из западни этим таинственным путем. Ну а если… Я прошу моих спутников не терять времени и спасаться поодиночке сейчас же, кто как может.
Что же касается меня лично и моего юного адъютанта, лейтенанта Винера, который и в этот час решительно отказался покинуть меня, то свою судьбу мы разрешим очень просто. Мы остаемся здесь в этих комнатах, но живыми предателям не сдадимся. Вот и все! Пока ворвавшаяся банда матросов с казаками будет искать нас в первых комнатах, мы успеем покончить свои счеты с жизнью, запершись в самых дальних. Тогда, утром 1 ноября 1917 г., это решение казалось таким простым, логичным и неизбежным… Время шло. Мы ждали. Внизу торговались. Вдруг в третьем часу дня вбегает тот самый солдат, который утром принес нам весть о Дыбенко. На нем лица не было. Торг состоялся, объявил он. Казаки купили свою свободу и право с оружием в руках вернуться домой всего только за одну человеческую голову! Для исполнения принятого решения, т. е. для моего ареста и выдачи большевикам, вчерашние враги по-дружески выбрали смешанную комиссию. Каждую секунду матросы и казаки могли ворваться…
Соглашение между казаками и матросами, казалось, окончательно разрешило ситуацию, не оставив мне пути к спасению. Но случилось чудо!
В комнату вошли два человека, которых я никогда не встречал раньше и не знал, – солдат и матрос.
– Мы не можем терять времени. Надевайте вот это.
«Это» состояло из матросского бушлата, шапки и автомобильных очков. Бушлат был слишком короток для меня. Шапка – слишком мала и все время сползала на затылок. Этот маскарадный наряд казался мне смешным и опасным. Но делать было нечего. У меня оставалось всего лишь несколько минут.
– У ворот перед дворцом вас ждет автомобиль.
Мы попрощались.
Вместе – матрос и я – мы через заднюю дверь вышли из моей комнаты. За нами последовали еще два матроса.
Тихо и спокойно разговаривая между собой, они миновали пустой коридор, который показался бесконечным.
Наконец мы оказались на лестнице и спустились к единственному выходу, у которого уже стоял смешанный патруль из казаков и матросов. Единственная ошибка, один неверный шаг – и нас обнаружат. Все будет потеряно.
Но похоже, мы вообще не думали об этой возможности. Мы двигались почти автоматически, с предельной точностью соблюдая равновесие, словно отлаженные машины. Мы проскользнули в двери мимо стражи. И – ничего!
Мы прошли под аркой. Осмотрелись. Никого не видно. Автомобиля нет. Сначала мы не могли понять, что случилось.
Пошли дальше.
Куда? Мы не знали. Двигаться еще быстрее было просто невозможно.
– Произошла какая-то путаница, – сказали мои новые друзья.
– Давайте вернемся, – ответил я.
Мы развернулись.
Снова оказались под аркой. Осмотрелись. Теперь нас можно было заметить.
Через дверь, противоположную той, через которую мы вышли, вернулись во дворец. Она вела прямо к караульному помещению.
Издали до нас донесся приглушенный шум. Это матросы Дыбенко и казаки Краснова поднимались наверх арестовывать меня.
В этот момент мы встретились с тем нашим другом, который и сообщил, что автомобиль будет нас ждать у выхода.
– Произошла путаница: автомобиль ждет вас у выезда из города, у Египетских ворот.
Развернувшись, мы в третий раз прошли под аркой.
Этого уже было более чем достаточно. Часовой сделал шаг в нашем направлении. Но здесь под аркой стоял верный друг, офицер, помещенный здесь на случай возможной «необходимости». Он был весь в бинтах; лицо его и тело несли на себе военные шрамы. «Внезапно» он потерял сознание и упал на руки тому часовому – не помню, был ли это казак или матрос, – который подходил к нам.
Все взгляды устремились на этого офицера. Мы успели выскользнуть.
Мы прошли через город. Дорога была длинной. Постепенно мы убыстряли шаг. Встретили извозчика. Мы запрыгнули в коляску.
– Поехали!
Еще издалека мы заметили машину, стоящую у Египетских ворот. Казалось, что мы никогда не доберемся до них. Мы были напряжены от нетерпения. Наконец мы оказались у цели. Сунули в руки извозчика до смешного крупную купюру. Он удивленно уставился на машину, которая с головокружительной скоростью сорвалась с места.
Автомобиль был великолепен. Как и шофер, авиатор. Мы с фантастической скоростью мчались по шоссе в сторону Луги. Шофер оказался настоящим мастером. В машине нашлись ручные гранаты. В случае необходимости они полетят в наших преследователей.
Погоня началась через несколько минут после нашего бегства. Для всех во дворце было загадкой, как и куда я скрылся.
Несколько друзей во дворце приняли самое активное участие в подготовке. Наш солдат, водитель, человек, абсолютно мне преданный, сделал вид, что просто «разъярен» этим побегом. Он вызвался возглавить преследование. В моей собственной машине, которой я пользовался для поездок на фронт, он последовал по пути нашего бегства.
Остальные двинулись в другом направлении. Машина, которую вел мой «преследователь», была полна врагов. Но это его не беспокоило. На полной скорости эта прекрасная машина внезапно сломалась. Теперь нас было не достать.
Но мы этого не знали и мчались вперед. Но куда мы направляемся? Конечно же не в Лугу. У нас не было ни малейшего представления, что там происходило за последние несколько часов.
Поблизости в лесу оказалась небольшая крестьянская ферма. Обитателями его были простые честные люди, которые не интересовались политикой.
Они знали друга того моряка, с которым я покинул дворец, хотя не виделись с ним больше года. Мы присмотрелись к шоссе. В обе стороны не было видно ни души. Мы остановились, вдвоем выпрыгнули из машины и исчезли в густом лесу. А автомобиль проследовал дальше.
Издалека до нас донесся прощальный сигнал его рожка».
9 ноября, когда Керенский готовил контратаку против большевиков, в Москве, втором городе России после Петрограда, разразилось вооруженное столкновение между силами Временного правительства и большевиками. К 15 ноября большевики пришли к власти и в Москве. Находясь в постоянном движении, Рид сразу же после большевистского переворота кинулся из Петербурга в Москву:
«Вокзал был совершенно пуст. Мы зашли в помещение комиссара, чтобы сговориться об обратных билетах. Комиссар оказался мрачным и очень юным поручиком. Когда мы показали ему свои мандаты из Смольного, он вышел из себя и заявил, что он не большевик, а представитель Комитета общественной безопасности. Характерная черточка: в общей сумятице, поднявшейся при завоевании города, победители позабыли о главном вокзале…
Кругом ни одного извозчика. Впрочем, пройдя несколько кварталов, мы нашли, кого искали. До смешного закутанный извозчик дремал на козлах своих узеньких санок. «Сколько до центра города?»
Извозчик почесал в затылке.
«Вряд ли, барин, вы найдете комнату в гостинице, – сказал он. – Но за сотню, так и быть, свезу…» До революции это стоило всего два рубля! Мы стали торговаться, но он только пожимал плечами. «В такое время не всякий и поедет-то, – говорил он. – Тоже храбрость нужна». Больше пятидесяти рублей нам выторговать не удалось. Пока ехали по молчаливым и заснеженным, еле освещенным улицам, извозчик рассказывал нам о своих приключениях за время шестидневных боев. «Едешь себе или стоишь у угла, – говорил он, – и вдруг – бац! – ядро. Бац! – другое. Та-та-та!.. – пулемет… Я скорей в сторону, нахлестываю, а кругом эти черти орут. Только найдешь спокойную улочку, станешь на месте да задремлешь – бац! – опять ядро. Та-та-та… Вот черти, право, черти!..»
В центре города занесенные снегом улицы затихли в безмолвии, точно отдыхая после болезни. Редкие фонари, редкие торопливые пешеходы. Ледяной ветер пробирал до костей. Мы бросились в первую попавшуюся гостиницу, где горели две свечи.
«Да, конечно, у нас имеются очень удобные комнаты, но только все стекла выбиты. Если господа не возражают против свежего воздуха…»
На Тверской окна магазинов были разбиты, булыжная мостовая была разворочена, часто попадались воронки от снарядов. Мы переходили из гостиницы в гостиницу, но одни были переполнены, а в других перепуганные хозяева упорно твердили одно и то же: «Комнат нет! Нет комнат…» На главных улицах, где сосредоточены банки и крупные торговые дома, были видны зияющие следы работы большевистской артиллерии. Как говорил мне один из советских работников, «когда нам не удавалось в точности установить, где юнкера и белогвардейцы, мы прямо палили по их чековым книжкам».
Наконец, нас приютили в огромном отеле «Националь» (как-никак мы были иностранцами, а Военно-революционный комитет обещал охранять местожительство иностранных подданных). Хозяин гостиницы показал нам в верхнем этаже окна, выбитые шрапнелью. «Скоты! – кричал он, потрясая кулаками по адресу воображаемых большевиков. – Ну, погодите! Придет день расплаты! Через несколько дней ваше смехотворное правительство пойдет к черту! Вот когда мы вам покажем!..»
Мы пообедали в вегетарианской столовой с соблазнительным названием: «Я никого не ем». На стенах были развешаны портреты Толстого. После обеда мы вышли пройтись по улицам».
Будучи горячим сторонником большевиков, Рид принял участие в церемонии похорон тех из них, кто погиб во время боев в Москве. Его описание этой сцены превратилось в языческий гимн в честь революции:
«Мы протолкались сквозь густую толпу, сгрудившуюся у Кремлевской стены, и остановились на вершине одной из земляных гор. Здесь уже было несколько человек, в том числе солдат Муралов, избранный на пост московского коменданта, высокий, бородатый человек с добродушным взглядом и простым лицом.
Со всех улиц на Красную площадь стекались огромные толпы народа. Здесь были тысячи и тысячи людей, истощенных трудом и бедностью. Пришел военный оркестр, игравший «Интернационал», и вся толпа стихийно подхватила гимн, медленно и торжественно разлившийся по площади, как морская волна. С зубцов Кремлевской стены свисали до самой земли огромные красные знамена с белыми и золотыми надписями: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции» и «Да здравствует братство рабочих всего мира!».
Резкий ветер пролетал по площади, развевая знамена. Теперь начали прибывать рабочие фабрик и заводов отдаленнейших районов города; они несли сюда своих мертвецов. Можно было видеть, как они идут через ворота под трепещущими знаменами, неся красные, как кровь, гробы. То были грубые ящики из нетесаных досок, покрытые красной краской, и их высоко держали на плечах простые люди с лицами, залитыми слезами. За гробами шли женщины, громко рыдая или молча, окаменевшие, мертвенно-бледные; некоторые гробы были открыты, и за ними отдельно несли крышки; иные были покрыты золотой или серебряной парчой, или к крышке была прикреплена фуражка солдата. Было много венков из неживых, искусственных цветов…
Процессия медленно подвигалась к нам по открывавшемуся перед нею и снова сдвигавшемуся неровному проходу. Теперь через ворота лился бесконечный поток знамен всех оттенков красного цвета с золотыми и серебряными надписями, с черным крепом на верхушках древков. Было и несколько анархистских знамен, черных с белыми надписями. Оркестр играл революционный похоронный марш, и вся огромная толпа, стоявшая с непокрытыми головами, вторила ему. Печальное пение часто прерывалось рыданиями…
Между рабочими шли отряды солдат также с гробами, сопровождаемыми воинским эскортом – кавалерийскими эскадронами и артиллерийскими батареями, пушки которых увиты красной и черной материей, увиты, казалось, навсегда. На знаменах воинских частей надписи: «Да здравствует III Интернационал!» или «Требуем всеобщего справедливого демократического мира!». Похоронная процессия медленно подошла к могилам, и те, кто нес гробы, спустили их в ямы. Многие из них были женщины – крепкие, коренастые пролетарки. А за гробами шли другие женщины – молодые, убитые горем, или морщинистые старухи, кричавшие нечеловеческим криком. Многие из них бросались в могилу вслед за своими сыновьями и мужьями и страшно вскрикивали, когда жалостливые руки удерживали их. Так любят друг друга бедняки…
Весь долгий день до самого вечера шла эта траурная процессия. Она входила на площадь через Иверские ворота и уходила с нее по Никольской улице, поток красных знамен, на которых были написаны слова надежды и братства, ошеломляющие пророчества. И эти знамена развевались на фоне пятидесятитысячной толпы, а смотрели на них все трудящиеся мира и их потомки отныне и навеки…
Один за другим уложены в могилу пятьсот гробов. Уже спускались сумерки, а знамена все еще развевались и шелестели в воздухе, оркестр играл похоронный марш, и огромная толпа вторила ему пением. Над могилой на обнаженных ветвях деревьев, словно странные многокрасочные цветы, повисли венки. Двести человек взялись за лопаты и стали засыпать могилу. Земля гулко стучала по гробам, и этот резкий звук был ясно слышен, несмотря на пение.
Зажглись фонари. Пронесли последнее знамя, прошла, с ужасной напряженностью оглядываясь назад, последняя плачущая женщина. Пролетарская волна медленно схлынула с Красной площади…
И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть – счастье…»
В 1920 году Рид умер от тифа в Москве. Он удостоился государственных похорон, и его прах был помещен в Кремлевскую стену, рядом с мучениками московской революции, которых он воспел в своей книге. Но в сталинские времена его знаменитый рассказ о революции был запрещен в России, поскольку упоминал деяния многих лидеров большевиков, таких, как Троцкий, чья репутация после 1917 года была уничтожена его былыми товарищами по оружию.
Москва последовала за Петроградом по пути революции, но остальная страна продолжала пребывать в болоте нерешительности и откровенного невежества. Недалеко от Москвы, в провинциальном городе, который не видел никаких примет революции, если не считать царского поезда, который промчался мимо их станции, неся Николая II с фронта к его правительству, ничего существенного, кроме смутных слухов, не волновало обстановку в городе. После отречения горожане, еще не получив указаний из Петрограда, организовали свое собственное местное правительство.
Некая англичанка, служившая гувернанткой в русской дворянской семье в этом городе, с ноября 1917 года вела дневник своей повседневной жизни.
«20 декабря Вчера мы были у графини. Все мы надеемся, что царь благополучно выбрался из России. Хотя в газетах об этом не было речи, но сообщалось, что безопасность царя была первым условием, которое немцы поставили русским. Вчера и сегодня говорилось, что в Петрограде много немцев и что немецкие пленные вооружены. Пришел попрощаться управляющий первым имением: он уезжает на Украину. Если бы только все русские так быстро отвечали на вызов! Мария Петровна в частном порядке получила известие, что много хороших солдат идут из X. к Москве (поезда отказывались везти их), и ее попросили позаботиться, чтобы они могли получить тут еду.
Крестьянам из первого поместья запретили что-либо отсылать. В их деревне все было хорошо; неприятности доставляли две другие, более дальние деревни. Сегодня приезжали несколько крестьян из первого поместья и сказали, что, если Мария Петровна решит вернуться в свой дом, они ее будут охранять. Она сама весь день провела в больнице, организовывая распродажу части имущества, которое больше не было нужно…
Баронесса пытается избежать политических разговоров, но этот распад России ужасен для нее; она так гордилась своей страной. Меня не покидает чувство, что мы должны оставаться сильными и уверенными в себе (хотя со вчерашнего дня намечается поворот к лучшему, никто не знает, когда и откуда забрезжит свет) и что нам еще понадобятся все наши силы. Наш город – не то место, которое можно безропотно сдать, хотя, слава богу, комитет старается как можно быстрее избавляться от солдат; доктора, не обращая внимания, как себя человек на самом деле чувствует, всем дают освобождения по болезни; чернь становится численно слабее, но к югу собираются другие толпы. А здесь школьники, мальчики и девочки, начали проводить собрания, на которых они нюхают эфир. Мария Петровна ходила говорить на эту тему с учителями и классными дамами. Местные большевики предложили вернуть офицерам погоны, но те сказали, что из этих рук они их не возьмут.
До сих пор баронесса чувствовала себя в безопасности в своем достаточно отдаленном доме, потому что несколько ниже по дороге стояло какое-то военное строение, которое по ночам всегда охранялось солдатами одного из хороших полков; но теперь часовых больше нет, так что оставлять баронессу одну с тремя пожилыми женщинами довольно рискованно. Мы послали к ней одного из австрийских военнопленных. На наших австрийцев вполне можно положиться; все они не немцы, а славяне.
Из Петрограда приходят циркуляры, в которых сообщается, что немцы требуют от народа спокойно дожидаться новых правителей! Какое бесстыдство! Немецкий принц или член старой династии под защитой Вилли? Кайзеру пришла пора беспокоиться о себе самом; царица была так груба с ним…
23 декабря Мария Петровна получила телеграмму из второго поместья. Там все то же самое, что и в первом: крестьяне захватывают землю, скот, дом и так далее. Мне пришло письмо от Мэри О. – крестьяне пришли к ее отцу с новым декретом, в котором говорится, что землю необходимо без промедления разделить между ними, и вежливо попросили его заняться разделом, потому что знали – он наилучшим образом справится с этим. Он ответил, что делить они могут сами, как им нравится, но к его коровам это отношения не имеет, он будет содержать их или продаст, где, как и когда ему это понравится. Ходят слухи, что в Москве идут какие-то бои. Многие ждут, что и здесь начнутся неприятности. Один австриец (раньше он жил в Будапеште, а теперь женился на русской) сказал, что шесть месяцев военного положения в Будапеште были просто ужасны; он рассказал, что, если на улице встречались три человека и останавливались поговорить, в них стреляли. Внуки Толстого, те, кого я встречала у X., жили за счет небольшого клочка земли, который они сами возделывали; фактически они трудились как простые крестьяне. Их выставили из собственного дома, и им пришлось уйти пешком. Тем не менее они говорят, что это не классовая война, что приветствуют и принимают настоящих работников. Городские большевики жалуются на «преступную растрату воды», вызванную тем, что буржуи много моются. Учитывая, что каждый домовладелец обеспечивает себя водой собственными силами (мы посылаем на реку телегу с бочкой), любое ограничение наших запасов можно считать вмешательством в пределы нашей свободы».
Ближе к Новому году в Москве и Петрограде твердо установилась власть большевиков. Похоже, что их правление носило куда более постоянный характер, чем у любого из временных правительств, которые предшествовали им в течение 1917 года. Два основных центра политического противостояния были уничтожены к 1918 году – долгожданное Учредительное собрание, где большинство принадлежало не большевикам, и монархия, которая встретила мученический конец. Судьба обеих институций изложена устами очевидцев, которым выпала привилегия наблюдать эти поворотные пункты в российской и мировой истории.
Большевикам было трудно разогнать Учредительное собрание, поскольку они сами голосовали за его созыв, и как будущий инструмент создания правительства оно обрело большую популярность среди всех партий и классов. Посему даже после большевистского переворота 7 ноября выборы в него состоялись, как и планировалось, 25 ноября. Большевики завоевали большинство в городах, но социалисты-революционеры одержали верх в большей части страны, обеспечив себе в целом подавляющее большинство.
Затем Ленин пытался бесконечно откладывать открытие Учредительного собрания, но 11 декабря, в день открытия, назначенный еще Временным правительством в 1917 году, депутаты со всей России собрались в Таврическом дворце, где и должны были проходить заседания собрания, – и выразили свой протест против действий большевиков. Питирим Сорокин, один из депутатов, оказался в центре событий:
«День юридического открытия Учредительного собрания выдался на редкость красивым и ясным. Синее небо, белый снег служили отличным фоном для огромных плакатов, развешанных повсюду: «Да здравствует Учредительное собрание, хозяин России». Толпы людей со знаменами приветствовали высшую власть страны, подлинный голос русского народа. По мере того как депутаты подтягивались к Таврическому дворцу, тысячи людей приветствовали их оглушительными криками. Но когда депутаты добирались до ворот, они убеждались, что те закрыты и охраняются большевистскими латышскими стрелками, вооруженными до зубов.
Что-то надо было делать – и немедля. Взобравшись на железную ограду дворца, я обратился к народу, пока остальные депутаты пробирались ко мне. Им удалось открыть ворота, и толпа хлынула в них, заполнив двор. Растерянные мощью этого порыва, латышские стрелки замялись. Мы атаковали двери дворца, которые тоже охраняли латышские солдаты и офицеры. За их спинами появился Урицкий и другие большевики. Снова обратившись к людям, я предложил выразить благодарность латышским стрелкам за их уважение к высшей власти в России и их явное желание охранять ее свободы. В конце я даже обнялся со старшим офицером. Вся остальная команда растерялась, в результате чего двери распахнулись, и мы вошли внутрь в сопровождении многих горожан. В коридоре Урицкий, совершенно отвратительный еврей, потребовал, чтобы мы шли в его кабинет для регистрации, но мы презрительно отодвинули его в сторону, сказав, что Учредительное собрание не нуждается в его услугах. В Дворцовом зале мы провели наше заседание и потребовали от народа России защищать свое Учредительное собрание. Была принята резолюция, что, несмотря на все препятствия, Учредительное собрание должно начать работу 18 января».
Учредительное собрание в самом деле собралось 18 января – но только на один день. Оно рухнуло под нажимом большевиков, о чем рассказал Эдгар Сиссон, который с 25 ноября 1917 года был специальным представителем президента Вильсона в России:
«Возвращаться в гостиницу я решил на санях с извозчиком, чтобы посмотреть на демонстрации, которые собираются отправиться к Таврическому дворцу.
Они без всяких трудностей получили разрешение на сборы. Я не знал, сколько колонн формировалось в других частях города. Три я видел сам, а об остальных слышал. Одна собиралась на площади перед Зимним дворцом. Другая разворачивала свои флаги на Марсовом поле. Одна собиралась пересечь Неву и выйти на Литейный по Александровскому мосту.
Когда я увидел первое шествие от Зимнего дворца, оно шло по Невскому, соблюдая идеальный порядок. Несколько кварталов я ехал вдоль него. Женщин в двойной колонне было столько же, сколько и мужчин. В авангарде колонны развевались знамена, самой популярной надписью на которых было «Вся власть Учредительному собранию». Демонстрантами могли быть горожане, представители среднего класса из любого континентального города или же из Нью-Йорка или Чикаго. От собратьев по всему миру их отличала только ужасающая серьезность. Вне этого шествия они были учителями и юристами, конторщиками и бизнесменами, инженерами и строителями, чиновниками и техниками. Их сообщество представляло собой почти всю городскую культуру. Одежда их была бедная, но аккуратная. Украшений на них не было.
Тротуары Невского были заполнены зеваками, большая часть которых была настроена враждебно. Они отпускали язвительные замечания, но не нападали; у меня создалось впечатление, что большевики решили защищать демонстрантов и мирным образом разводить колонны на широком пространстве, примыкающем к Таврическому дворцу. Дело в том, что в центре города были совершенно не нужны какие-то беспорядки. Охрана порядка здесь была доверена не столько солдатам и матросам, сколько конным казакам.
По дороге к Михайловскому я подъехал к Марсовому полю. По пути я слышал выстрелы, но не мог определить, из какого района города они доносятся. На самом поле я стал свидетелем сцены стычки, которая, тем не менее, не переросла в сражение. Как мне рассказали, демонстрация собиралась перейти мост через Фонтанку и так выйти на Литейный проспект. Пришло сообщение, что эту колонну рассеяли. Один из ее организаторов, стоя в толпе рядом с могилами жертв мартовских боев, возбужденно говорил, что грядет катастрофа.
Расстояние, если его срезать, оказалось не так уж и велико. Извозчик погнал лошадь, и через несколько минут я оказался на Литейном среди остатков колонны, точнее, двух колонн – той, что я оставил на Невском, и другой, которая тронулась с Марсова поля. Последняя, вышедшая на Литейный как раз к тому времени, когда первая остановилась, рассыпалась, я думаю, скорее из-за паники, а не потому, что на нее напали. Голова первой процессии как раз уперлась в заграждения, поставленные большевиками в нескольких кварталах от угла Литейного и Шпалерной, где следовало повернуть направо к Таврическому дворцу.
Патруль большевиков разогнал ее авангард, и демонстрация покатилась обратно по всей длине Литейного. Наши сани (за мной следовали еще одни) оказались в самой гуще толпы. Несколько секунд мне было казалось, что мы из нее не выберемся и ничего не увидим. Затем я заметил, что улица густо запружена народом – но не по центру. Недавно выпало много снега, и теперь он сугробами громоздился вдоль обочин. Остатки демонстрации пробирались вдоль этих снежных берегов, по боковым улочкам. Видя, что поблизости нет солдат, недавние демонстранты показывались на виду или смотрели поверх снежных валов. Мы скользили мимо куч из брошенных и поломанных знамен. Нигде не было видно тел убитых или раненых, хотя нам кричали, что тут поблизости идет бойня.
Кровь, конечно, пролилась. Мы ездили взад и вперед по Литейному и по боковым улочкам, где еще продолжались столкновения. Особенно чувствовалось смятение в кварталах по обе стороны Фурштатской. Снег на Литейном и почти на всем протяжении Фурштатской был в многочисленных пятнах крови. Кое-кто из демонстрантов утверждал, что тут стреляли с крыш. Откуда-то возникли латышские стрелки, и скоро на Литейном появился патрули. Их встретили криками: «Убийцы народа!» Патрульные не обращали на них внимания и споро занимались своим делом – поднимали людей из снега, помогали им стать на ноги и советовали идти куда-нибудь в другое место. Отвечая на вопрос, солдат, командовавший ближайшим к нам патрулем, сказал, что его люди не стреляли.
Позже большевики возложили ответственность за убийства этого дня на провокаторов, на роль которых лучше всего подходили исчадия контрреволюции, хотя признали, что была стрельба, которая и рассеяла авангарды колонн.
Посольство (Соединенных Штатов) было дальше по Фурштатской и, оставив исчезнувшую колонну, мы, прежде чем отправиться в Таврический дворец, направились туда. Я предположил, что посол может изъявить желание стать свидетелем открытия Учредительного собрания. Но он счел, что его присутствие нецелесообразно.
Попасть на заседание Учредительного собрания удалось в результате переговоров. Наши пропуска проложили путь сквозь плотные кордоны моряков на улицах и в Таврическом парке и даже сквозь линию дворцовых охранников. Тем не менее в самом здании мы встретились с жесткими требованиями. Мы не обзавелись верительными грамотами от самого Учредительного собрания. Заместитель комиссара от большевиков в ходе длинного разговора сказал, что они не против нашего присутствия, но они поставлены здесь, чтобы «защищать» Учредительное собрание – но не уточнил от кого. Так что нам пришлось рыться в карманах в поисках хоть каких-то документов с посольской печатью, красной и красивой. Найдя одну, мы направились ко входу на гостевую галерею. Мы то и дело произносили слово «Diplomatique», показывая печать, и нас весьма любезно проводили к трем ложам, оставленным для иностранных дипломатов. Нам предшествовало несколько французов и англичан, но ложи были просторными, и для нашей маленькой компании нашлись места у самых перил галереи.
Убранство зала было строгим и живописным. Расстановка мест для четырехсот с лишним депутатов очень напоминала обстановку наших законодательных собраний. Кресла, несколько их со столами впереди, заботливо отодвинуты от президиума, который на русский манер включал не только трибуну, но и места для членов различных комитетов и почетных гостей. Галереи почти полностью окружали зал и даже нависали над президиумом. Кресла были обтянуты красной кожей, а убранство зала было выдержано в красных и золотых цветах. Мягкое освещение не отбрасывало теней. Это место вполне подходило для парламента.
Много кресел не было занято, президиум был пуст, и видно было, что открытия сессии в ближайшем будущем не ожидалось. Сходство с каким-то гражданским обществом, собравшимся для дебатов и неторопливых действий, кончалось, стоило лишь взглянуть на столы, заваленные грудами документов, и на кучки суетливых депутатов, преисполненных сознания собственной важности.
Учредительное собрание было окружено стальным кольцом. Рядом с нами повсюду была вооруженная охрана – моряки с револьверами на поясах и ружьями на плечах, солдаты с винтовками и пулеметными лентами крест-накрест на груди поверх шинелей, помощники комиссаров с нарукавными повязками и конечно же тоже при оружии. На галереях было не так много гостей, но тем не менее они гудели от топота ног. Охрана стояла или прогуливалась в сообщающихся коридорах, и в каждой ложе, включая и нашу, стояло по паре солдат или матросов. Все капельдинеры, даже в самом зале, были вооружены.
Ожидание становилось тягостным. Когда мы вошли, было без нескольких минут час. Прошло три часа без малейших признаков начала. После легкого завтрака время ланча так и не наступило. Чувство голода послало нас на поиски еды. Конечно же в здании нашлась чайная комната, и мы убедились, что народа в ней больше, чем в зале заседаний. Подавали здесь только чай – ни супа, ни хлеба. Мы опустошили по высокому чайному стакану и, на этот раз уже не торопясь, вернулись на свои места. Президиум заполнялся. По обеим сторонам просторной сцены появились две большие группы – на одной стороне правые социалисты-революционеры и их сторонники и большевики с приверженцами их небольшой партии – на другой. Члены ЦИК Советов тоже были здесь, и, наконец, в задних рядах президиума под самой галереей мы заметили Ленина. В течение всего дня к нему время от времени подбегали за советами его адъютанты и помощники, но ни разу ни днем, ни ночью он не принял участия в дебатах, не поднимался на трибуну.
Мы пытались понять, что означает его появление. Неужели большевики надеются, что им удастся обрести большинство в Учредительном собрании? Неужели они близки к национальной победе, которая позволит им контролировать это собрание? Естественно, это и было их целью, когда они постоянно оттягивали открытие сессии, проводя на выборах своих кандидатов в депутаты, убирая кадетов из списков. Если бы им таким образом удалось завоевать большинство, их могли бы обвинить в обмане при подсчете голосов на избирательных участках, в пренебрежении волей избирателей, но как бы там ни было, удалось добиться некоего подобия юридического контроля. И ничто из предварительных данных не указывало, что большевики завоевали преимущество в Учредительном собрании. Примерные подсчеты показывали, что два из трех голосов отданы не большевикам.
Оказавшись в меньшинстве, попробуют ли они силой захватить Учредительное собрание, чтобы сделать из него послушный им инструмент, или полностью разрушат его? Они выступали с такими угрозами. И вот пришел день ответа.
В течение бурных минут начала пятого часа казалось, что большевикам удалось захватить контроль над парламентом. В России принято, что старейший член высокого собрания призывает его к порядку. Когда все депутаты расселись и свободным оставалось лишь кресло председателя, со своего места среди правых социалистов-революционеров поднялся пожилой депутат Шведов и направился к сцене. До сих пор в зале стояло молчание. Внезапно в делегации большевиков начался шум – крики, топот, свист. Эсеры ответили тем, что поднялись и стали аплодировать. Пожилой человек добрался до кресла и повернулся лицом к делегатам, но в шуме его голос нельзя было расслышать. Несколько большевиков на сцене пытались оттолкнуть его, но он отбросил их руки и продолжал неколебимо стоять на своем месте. Шум все возрастал.
Урицкий, комендант Таврического дворца, вышел вперед, но так и не смог ничего сказать. Из-за его спины из задних рядов президиума вышел Свердлов, член Центрального Исполнительного комитета (и лидер большевиков). Он встал перед Шведовым, позвонил в колокольчик и резко призвал собрание к порядку. При виде его большевики прекратили скандалить, и стал слышен его голос. Удивленная оппозиция опустилась на свои места. Прибегнув к типичной ленинской стратегии, Свердлов самовольно наделил себя правами временного председателя. Похоже, что большевики всюду и всегда собирались следовать своим собственным путем.
В своей речи, на которую он имел право, как временный председатель, Свердлов зачитал большевистскую Декларацию прав, и они радостными возгласами встречали каждое ее предложение, а в заключение поднялись и запели «Интернационал», гимн социалистов, так что эсерам также пришлось лицемерно присоединиться к нему. Большевики великолепно выстроили свою стратегию, действуя как один человек, что представляло собой контраст с разноголосым лидерством среди социалистов-революционеров.
Настоящая грызня за постоянное председательство сохранилась, и вот тут большевики подготовили сюрприз. Они выдвинули от себя кандидатом не члена своей партии и даже не мужчину, а пламенную хрупкую женщину Спиридонову, возглавлявшую крестьян, члена партии левых эсеров. Они были хитрыми политиками, конечно, не одного только сегодняшнего дня, но и завтрашнего. Кто мог знать, сколько комплиментов достанется Спиридоновой, когда на следующей неделе на Всероссийском съезде Советов она приведет крестьян и свою партию в ряды большевиков?
Правые эсеры назвали Чернова, своего лидера. Голосование проходило с помощью шаров, долгого и нудного способа голосования – шары надо было найти, раздать и собирать их в стеклянные сосуды. Под одобрительные возгласы победителем была объявлена Спиридонова, но подсчет уверенно вывел вперед Чернова. У него было 244 голоса, а у Спиридоновой всего 153. Как ни странно, большевики восприняли поражение, не попытавшись снова поднять крик. На заседании воцарился порядок.
В обращении Чернова, когда он наконец занял место председателя, не было ничего нового – он в основном зачитал Декларацию социалистов-революционеров. Его нападение на программу большевиков было довольно энергичным, но, когда он подчеркнул, что Учредительное собрание добьется мира там, где большевики потерпели поражение, это не вызвало у меня энтузиазма. Бухарин, теоретик большевиков, отвечая Чернову, подчеркнул, что большевизм – это не только национализация промышленности. Это диктатура вооруженного пролетариата над всеми классами, и декларация партии гласит, что средний класс и класс собственников будут разоружены.
Пока Чернов говорил, большевики сидели, небрежно развалясь, на своих местах. Они брали пример с Ленина, который вытянулся во весь рост на диванчике в президиуме, делая вид, что спит. В своих заметках я черкнул «идиотский номер». Его поведение именно так и выглядело, хотя Ленин в самом деле мог вздремнуть.
Когда Бухарин начал говорить, его однопартийцы энергично встрепенулись и, внимательно воспринимая каждое слово, часто разражались аплодисментами.
Их тактика изменилась, когда слово для ответа взял смуглый Церетели, лидер меньшевиков. Перед ними стоял ненавистный противник и умелый оратор. Два месяца ему приходилось скрываться, и он поставил на кон свою свободу ради права присутствовать на заседании законодательного собрания, куда был избран. Он был мертвенно бледен, что не мешало ему говорить страстно и убедительно. Он обрел силы сокрушить своих врагов. Заметки, которые я делал, не передают убедительности его речи, хотя в них на переднем плане был юридический аргумент, на который эсеры больше всего рассчитывали, – принцип, по которому действия Советов говорили, что они уже признали Учредительное собрание.
От аргументов он перешел к обвинениям, возлагая на большевиков вину за их грехи перед народом и страной. Его предложения резали и хлестали как бичом. То ли в силу установившегося порядка, то ли из-за его ораторского мастерства, но его не прерывали, когда он начал говорить. Его появление на трибуне было встречено гулом и криками, но своим ораторским мастерством он добился молчания. У него был чистый и музыкальный голос. Он говорил не более десяти минут, но в течение шести недель большевики так и не нашлись что ему ответить по существу.
Ни одной из других враждебных речей они не уделяли столько внимания. На другой день на совещании в Петроградском Совете Зиновьев яростно обрушился на Церетели, газеты большевиков подвергли его длительному обстрелу. Но прямые и откровенные обвинения Церетели были немногочисленны и просты. Он сказал, что большевики потерпели жалкое поражение, что они губят Россию, что их мир будет завоеван за счет гражданской войны и что у них нет ни малейшего представления о смысле созидательного социализма. Все эти понятия он изложил языком, понятным любому русскому человеку.
Доказательством этого было поведение матроса в нашей ложе. Он монотонно ругался и несколько раз угрожающе вскидывал винтовку. Я сомневаюсь, что он в самом деле собирался стрелять, хотя и испытывал такое желание, но на всякий случай держался к нему поближе. Один из нас посматривал на его начальника, который хотя и не хотел никаких инцидентов, но эмоционально был весьма возбужден. Несколько раньше в соседней ложе другой матрос развлекался, с ухмылкой глядя на Чернова сквозь винтовочный прицел. Проходящий мимо комиссар, тоже улыбаясь, все же посоветовал ему опустить винтовку.
Уже было семь вечера, когда Чернова выбрали председателем, и одиннадцать, когда Церетели живым и здоровым сошел с трибуны. Желудок у меня был пуст, а голова клонилась от множества речей. Впереди предполагались партийные дебаты. Скажи мне, что к часу Учредительное собрание уже будет разогнано, я бы подтянул ремень, остался и понаблюдал бы ту малость, что еще оставалась до момента смерти. Откровенно говоря, и само собрание не знало, что оно мертво, пока не наступил момент кончины.
В качестве пролога к заметкам этого дня и этой ночи я сделал вступительную запись: «Янв., 18-го. Крах. Вечернее сообщение: шестеро убитых, тридцать четыре раненых – скорее всего, преуменьшение».
В ходе своих стараний разогнать все политические силы, оппозиционные большевизму, в конце 1917 года Ленин объявил вне закона кадетскую партию и арестовал двух ее лидеров, Шингарева и Кокошкина, которые были избраны членами Учредительного собрания. Шингарев уже появлялся на этих страницах, когда в начале мартовских дней вместе с Шульгиным спешил по петроградским улицам в Думу. Эти двое были убиты в тюремной больнице 19 января, через день после скомканного открытия Учредительного собрания. Изгоев, член кадетской партии, вскоре услышал эту ужасную новость:
«Рано утром (20 января) я вышел прогуляться и неожиданно наткнулся на издателя М. И. Ганфама. Он сказал мне: «Идемте со мной; случилось нечто ужасное… только что явился сторож из Мариинской больницы и рассказал, что этой ночью матросы убили кадетов (А. И. Шингарева и Ф. И. Кокошкина)… Мы поспешили в больницу и узнали от медсестры… что, когда эти двое уснули, в палату вошли несколько вооруженных человек и хладнокровно расстреляли их… Такое убийство двух членов Учредительного собрания по сути означало смерть самого собрания… На улице перед больницей собралась огромная толпа… «Чего это ради о них плакать!.. Всех их надо перебить! Они помогали Керенскому грабить Россию… Шингарев, как министр финансов, украл двенадцать миллионов…»
Когда кто-то попытался сказать матросу, что все это ложь, что убитые были небогатыми людьми, что Шингарев со своей большой семьей жил на пятом этаже в небольшой четырехкомнатной квартире, тот не поверил и заорал: «Мы знаем… знаем, кто вы такие! Вы, кто защищали министров-капиталистов… Вас, кадетов, пролетарское правительство объявило вне закона… и на то, должно быть, была причина. Наши вожди такие же умные, как и вы».
Было ясно, что часть слушателей на его стороне. Спорить с ним было небезопасно… Я не мог не думать об убитых, которые трудились всю жизнь, дабы просвещать таких невежественных людей – и какое воздаяние они получили за свои труды…»
«Известия» следующим образом прокомментировали это убийство:
«Ужасна смерть Шингарева и Кокошкина… трудно поверить, что есть люди, павшие так низко, чтобы напасть в больнице на двух беззащитных больных людей и убить их… Это убийство пятнает честь революции… Оно помогает лишь врагам революции… Эти невежественные люди не понимали, что, убивая Шингарева и Кокошкина, они действовали в интересах врагов революции… Перед лицом этих фактов убийц необходимо найти, чтобы они предстали перед революционным судом. На знамени революции не должно быть пятен».
Дыбенко, как большевистский лидер Балтийского флота, сделал заявление по этому поводу:
«В ночь с 19 на 20 января в Мариинской больнице были убиты Шингарев и Кокошкин… В соответствии с информацией, полученной от сотрудников больницы, убийство было совершено людьми, носившими морскую форму. Это дело должно быть тщательно расследовано. Честь революционного флота не должна быть запятнана обвинением в убийстве революционными матросами беспомощных врагов, которые были обезоружены и взяты под стражу.
Я призываю всех, кто принимал участие в этом убийстве… добровольно явиться и предстать перед революционным трибуналом…»
Убийство двух невинных людей вызвало реакцию, полную неподдельного ужаса со всех сторон, включая и самих большевиков, но революция только начала собирать свою жатву человеческих жизней. Несколько лет спустя одновременная смерть сотен человек не вызывала даже шепота.
Устранив своих соперников одной рукой, правительство большевиков, находившееся в младенческом возрасте, другой рукой попыталось раскрутить колеса нового образа жизни. Начало советской бюрократии было столь же убого и комично, как и все те лозунги и новые организации, которые пытались навести порядок после хаоса революции. Глава законодательного бюро Совета народных комиссаров (Совнаркома) оставил отчет, как в первые дни своего существования он медленно обретал почву под ногами:
«В первые дни своего существования Совнарком размещался в 36-м кабинете Смольного института. Комната была маленькой и грязной. В те дни Совнарком и Центральный комитет партии практически не отличались друг от друга.
Первый закон был опубликован в «Газете Временного правительства рабочих и крестьян» № 1… Он утверждал местные органы самоуправления… реквизицию складов, домов, ресторанов и других торговых и производственных учреждений… Этот декрет был единственным юридическим обоснованием для бесчисленных реквизиций, которые начали проводить местные «Совдепы»… В то время правительство не проводило регулярных заседаний. Первый декрет Совнаркома был написан Каменевым, Сталиным и мною… Было много разговоров, как подписать его: «Ленин», «Ульянов» или и так и так. Сталин подписал «Владимир Ульянов-Ленин» и отослал в печать…
Из первых пятнадцати декретов, которые были найдены в собрании законов, только два в самом деле были выпущены Совнаркомом… Я помню изумление Ленина, когда он впервые увидел декрет номер 12 за его подписью, который наделял Совнарком законодательной властью и давал Центральному исполнительному комитету право аннулировать решения правительства».
Сторонники большевиков надеялись получить работу в правительстве, и очень многие получали просимое, часто, несмотря на искреннее благородство помыслов просителя, никак не соответствовавшее его данным. Так случилось с молодым человеком по фамилии Пестовский, который явился в Смольный в надежде получить какое-нибудь скромное место.
«Комната была довольно просторной. В одном углу за маленьким столиком работал секретарь Совнаркома товарищ Н. П. Горбунов… Товарищ Менжинский, у которого был очень усталый вид, лежал на диване, над которым была надпись «Народный комиссариат финансов».
Я сел рядом с Менжинским и начал с ним разговаривать. С совершенно невинным видом он принялся задавать вопросы о моей предыдущей карьере и проявил интерес к моим прошлым занятиям.
Я ответил, что учился в Лондонском университете, где среди прочих предметов изучал и финансы.
Менжинский внезапно встал, пристально посмотрел на меня и категорически объявил: «В таком случае мы сделаем вас директором Государственного банка».
Испугавшись, я ответил… что у меня нет желания претендовать на такой пост, поскольку он «не соответствует моим намерениям». Ничего не ответив, Менжинский попросил меня подожддать и вышел из комнаты.
Он отсутствовал какое-то время, после чего вернулся с бумагой, подписанной Ильичом (Лениным), в которой сообщалось, что я директор Центрального банка.
Я был крайне ошеломлен и начал просить Менжинского, чтобы он отменил это назначение, но в этом вопросе он остался неколебим».
Вдали от политических бурь царская семья тихо жила в провинциальном городке Тобольске, куда была сослана в августе 1917 года. Хотя здесь ей не угрожала петроградская чернь, солдаты, охранявшие ее, ежедневно унижали членов семьи. Полковник Кобылинский, который уже появлялся на этих страницах, как человек, после отречения императора посланный генералом Корниловым на пост военного коменданта Царского Села, сопровождал семью в Тобольск и продолжал нести ответственность за охрану ее. Здесь он приводит картину грустной жизни в Тобольске:
«На Рождество (1917 года) семья присутствовала в церкви на заутрене, после которой был отслужен обычный благодарственный молебен. Из-за сильных холодов я обычно ближе к концу службы отпускал часовых, оставляя нескольких человек только в самой церкви; те, кто постарше, молились, а остальные только грелись. Как правило, общее число солдат, которые одновременно находились в церкви, было невелико. Но в этот день я заметил, что солдат в храме было больше, чем обычно, и подумал, что причиной тому – Рождество, которое считалось выходным днем. Когда служба подходила к концу, я вышел из церкви и приказал солдатам вызвать охрану. Повторно я не входил в церковь и окончания службы не слышал. Но после того, как царская семья покинула церковь, Панкратов сказал мне: «Вы знаете, что священник сделал? Он провозгласил «многая лета» царю, царице и всей семье, упомянув их имена в молитве, и солдаты, которые все это слышали своими ушами, начали перешептываться». В результате бессмысленная преданность отца Василия обернулась большой неприятностью, поскольку солдаты начали возмущаться, выражать желание убить или, по крайней мере, арестовать священника, который вел службу. Было очень трудно убедить их не предпринимать никаких агрессивных шагов, а дождаться решения следственной комиссии. Из-за такой напряженной ситуации епископ Гермоген немедленно перевел отца Василия в Абалакский монастырь, а я лично посетил епископа и попросил его назначить другого священника. И после этого службы для царской семьи вел отец Крайнов.
Результатом всех этих новых бед стало то, что солдаты потеряли ко мне доверие и стали говорить: «Когда службы проходят дома, то уж точно провозглашается «многая лета» царской семье». Так что они решили не позволять царской семье ходить в церковь, и молиться теперь они могли только в присутствии солдата. Единственное, чего мне удалось добиться, – это разрешения царской семье посещать храм в самые святые дни православной церкви. Мне пришлось подчиниться решению, чтобы на богослужениях в доме губернатора присутствовал солдат. В результате столь бестактного поведения отца Василия солдатам теперь было разрешено входить в губернаторский дом, что раньше им не позволялось. Позднее произошел новый инцидент. Солдат по фамилии Рыбаков, который присутствовал на богослужении, услышал, как священник упомянул имя царицы Александры (святой). Подозрения и недовольство вспыхнули с новой силой. Мне пришлось послать за Рыбаковым, найти церковный календарь и объяснить ему, что царица Александра не имеет ничего общего с
императрицей Александрой, что это всего лишь имя святой, известной как царица Александра.
Когда началась демобилизация армии, стали уходить и мои стрелки. На замену уходящим «старикам» пошла молодежь, которую присылали из запасных в Царском Селе. Этот набор, который уже успел побывать в самом центре политической борьбы, был жесток и развращен…
Не зная, с чем еще они могут столкнуться, солдаты решили запретить членам свиты покидать дом. Мне удалось объяснить им, насколько это смешно, так что они передумали и позволили членам свиты выходить из дому – но лишь в сопровождении часового. Наконец они устали от всего этого и позволили всем выходить два раза в неделю, но не дольше чем на два часа.
Как-то, желая попрощаться с большой группой отбывающих солдат, царь с царицей поднялись на небольшую снежную горку, построенную для развлечения детей. Те солдаты, которые оставались, очень разгневались и сровняли холмик с землей, сказав, что кто-нибудь может легко обстрелять царскую семью, когда она стоит на вершине горки, а если это случится, ответственность понесут они.
Как-то царь надел черкеску и повесил на пояс кинжал. Солдаты сразу же заволновались и стали кричать: «Их надо обыскать, они носят оружие!» Я приложил немало сил, уговаривая людей не настаивать на этом обыске. Обратившись к царю, я объяснил ему ситуацию и попросил передать мне кинжал…
…Когда в один день солдаты вынесли новую резолюцию, что все офицеры должны расстаться со своими портупеями, я почувствовал, что уж этого вынести не могу. Я понимал, что абсолютно потерял контроль над своими людьми, и в полной мере осознавал свое бессилие! Так что я зашел в губернаторский дом и попросил Теглева передать царю, что прошу принять меня. Царь сразу же встретился со мной в комнате Теглева, и я сказал ему: «Ваше величество, я стремительно теряю власть. Солдаты снимают с нас портупеи! Я больше не могу быть полезен вам и хотел бы, если вы не возражаете, сложить с себя обязанности. Мои нервы на пределе. Я измотан». Император положил мне руку на плечо. Глаза его были полны слез. «Я умоляю вас остаться, – сказал он. – Евгений Степанович, останьтесь ради меня, ради моей жены и детей. Вы должны остаться ради нас. Вы же видите, как все мы страдаем».
Затем он обнял меня, мы расцеловались, и я принял решение остаться.
Далее случилось следующее: Дорофеев, солдат Четвертого полка… пришел ко мне и сказал, что на митинге солдатского комитета было принято решение – император обязан снять свою портупею… Я попытался убедить Дорофеева не делать этого. Он вел себя очень агрессивно… и во время разговора был вне себя от злости. Я указал, что возникнет очень затруднительное положение, если император откажется подчиниться. «Если откажется, – ответил солдат, – я сам сорву их». – «Но предположим, – сказал я, – он в ответ ударит тебя?» – «Тогда и я ему врежу», – ответил Дорофеев. Что еще тут можно было сделать? Я начал было убеждать его, говоря, что не всегда все так просто, как кажется, и добавил, что император – брат английского короля, из-за чего могут последовать очень серьезные осложнения. Я посоветовал солдатам запросить инструкций из Москвы, и мне удалось убедить их – они ушли связываться с Москвой. Затем я повидался с Татищевым и сказал ему – пусть он попросит императора воздержаться от ношения портупеи в присутствии солдат. После этого император стал носить черную куртку на меху без портупеи.
Для детей были сделаны качели, потому что великие княжны любили качаться на них, но солдаты Второго полка, которые стояли на часах в этом месте, вырезали на сиденьях качелей самые неприличные слова. После того как император увидел их, сиденья сменили. Все это случилось, когда начальником караула был сержант Шикунов. Он был большевиком.
Не помню точно, в какой день я получил телеграмму от Карелина, комиссара бывшего министерства царского двора. В телеграмме говорилось, что народ не может больше содержать царскую семью и что они должны будут сами заботиться о себе, а Советы возьмут на себя обеспечение их солдатским рационом, квартирой и теплом».
В течение этих мрачных дней изгнания в своей собственной стране Николай II вел дневник:
«24 ноября, суббота (1917) Выпало много снега. Из Петрограда уже давно не приходит ни газет, ни телеграмм. В столь важное время это серьезно. Девочки заняты качелями, прыгают с них в снег. В девять часов прошла вечерня.
27 ноября, вторник День рождения дорогой мамы и двадцать третья годовщина нашей свадьбы. В двенадцать часов прошла служба. Хор все путал и пел не в лад с мелодией, наверно, потому, что не репетировал. Погода солнечная и теплая, с порывистым ветром. После полуденного чая перечитывал свои ранние дневники – приятное занятие.
30 ноября, пятница Та же самая неустойчивая погода с пронизывающим ветром. Разрывается сердце, когда читаешь в газетах описание того, что случилось две недели назад в Петрограде и Москве. Это куда хуже и куда позорнее, чем раньше.
3 декабря, понедельник Мороз усилился, и день был ясным. Среди солдат ропот, потому что они вот уже три месяца не получали из Петрограда жалованья. Недовольство было быстро улажено временным займом необходимой суммы из банка. Днем занимался колкой дров. В девять прошла вечерняя служба».
Английский преподаватель царских детей, именовавшийся Сиднеем Ивановичем Гиббсом, оставил описание, как обычно проходили дни в Тобольске. Окруженные горсткой преданных домашних слуг и благородных придворных, Романовы, чтобы сохранить душевное здоровье, всеми силами старались соблюдать обычный порядок бытия, к которому привыкли:
«В целом наше пребывание в Тобольске было весьма приемлемым. В условиях нашей жизни я не видел ничего, что могло бы вызвать возражения. Конечно, в сравнении с предыдущим существованием имелись определенные недостатки; было немало мелочей, из-за которых возникали трения, но довольно скоро удалось к ним привыкнуть.
Все мы много трудились. Императрица учила детей Закону Божию (на уроках присутствовали все дети, кроме Ольги Николаевны, которая завершила обучение в 1914 году). Кроме того, она немного учила Татьяну Николаевну немецкому. Цесаревичу императрица давала уроки истории. Клавдия Михайловна Ритнер преподавала великим княжнам Марии и Анастасии, а также цесаревичу математику и русский язык. Княгиня Гендрикова давала уроки истории Татьяне Николаевне. Я учил их английскому.
Уроки занимали время с 9 до 11 утра. С одиннадцати до двенадцати дети получали возможность погулять. Занятия возобновлялись в двенадцать и продолжались не менее часа. В час сервировали обед. По предписанию врача цесаревичу полагалось после обеда полежать на кушетке. Пока он лежал, мы с Жильяром (преподаватель из Швейцарии) вслух читали ему. Затем Нагорный одевал цесаревича, и мы шли на прогулку до четырех или пяти часов. Когда мы возвращались, император давал цесаревичу урок истории, а тот играл в игру «Тише едешь, дальше будешь», которую любил. Для этого мы разделялись на две партии. Цесаревич, Жильяр или я были на одной стороне, Долгорукий и Шнейдер – на другой. Наследнику очень нравилась эта игра, и Шнейдер вкладывала в нее все сердце, но порой она ссорилась с Долгоруким. Это в самом деле было смешно. Мы играли почти каждый день, и Шнейдер всегда говорила, что никогда больше не сядет играть.
От 6 до 7 цесаревич занимался со мной или Жильяром. От 7 до 8 готовил уроки на завтрашний день. Ужин подавали к 8 часам. После него вся семья собиралась наверху. Порой мы играли в карты, и я часто раскладывал двойной пасьянс на пару со Шнейдер. Татищев, Ольга Николаевна, доктор Боткин, Жильяр и Долгорукий играли в бридж. Случалось, что царь и дети садились играть в безик. Император часто читал вслух.
Порой великие княжны Ольга, Мария и Анастасия поднимались в комнату Демидовой… Случалось, что Жильяр, Долгорукий, царевич или я составляли им компанию. Какое-то время мы всегда оставались в этой комнате, где вдоволь веселились, смеялись и вообще приятно проводили время.
Император вставал рано. В девять часов он пил чай в своей рабочей комнате, а затем до 11 утра читал. Потом прогуливался по саду, а во время прогулки занимался какими-нибудь физическими упражнениями. В Тобольске он часто пилил дрова. С посторонней помощью царь построил площадку на крыше оранжереи и лестницу, сконструированную нашими общими усилиями, которая вела на площадку. В непогоду император любил сидеть на ней. Обычно вне дома император проводил время до полудня, затем возвращался и шел в комнату к дочерям, куда подавали блюдо с бутербродами. Затем он уходил к себе и работал вплоть до обеда. После него император снова работал или до наступления сумерек прогуливался в саду. В 5 часов семья пила чай, после которого император обычно читал вплоть до ужина.
Императрица вставала в самое разное время, порой куда позже, чем остальные, но часто бывала готова вместе со всеми. По утрам ее не видел никто из посторонних. Случалось, что императрица появлялась только к обеду. По утрам она работала или занималась с детьми. Она любила творческую работу – вышивание или живопись, а когда дома никого не было и она оставалась она, то с удовольствием играла на пианино.
Обед и ужин не оставляли желать лучшего. На обед обычно были суп, рыба или мясо и десерт. Кофе мы пили наверху. Ужин походил на обед, но для разнообразия было больше фруктов.
Если за обедом присутствовал император, то мы рассаживались в следующем порядке: во главе стола сидел император, напротив него императрица, Гендрикова сидела справа от императора, а рядом с ней – великая княжна Мария. Слева от императора располагались Шнейдер и Долгорукий. Царевич сидел справа от императрицы, а слева от нее – Татищев и великая княжна Татьяна. В конце стола сидел Жильяр, напротив него – великая княгиня Анастасия и я. Если императрица обедала наверху, ее место занимала великая княжна Ольга.
Боткин ужинал всегда с царской семьей, но обед проводил со своей. Обычно он садился между великой княжной Ольгой и царевичем… Еда была хорошей, и ее было в избытке.
Помимо обеда и ужина ежедневно дважды подавали чай.
По утрам император пил чай в своей рабочей комнате с великой княжной Ольгой. Там же всегда сервировали чай и по вечерам, когда присутствовали только члены семьи».
В апреле 1918 года царскую семью перевезли из Тобольска в Екатеринбург на Урале. Естественная враждебность местного Совета к своим царственным пленникам заметно увеличилась, когда антибольшевистский чешский легион подступил к Екатеринбургу. Не дожидаясь указаний от руководства большевиков, Екатеринбургский Совет взял на себя ответственность за судьбу царя и его семьи. 16 июля Николаю II сообщили, что всем им придется снова переезжать и что семья должна собраться в дорогу. Местный рабочий с соседней фабрики стал свидетелем событий этой ночи.
«Вечером 16 июля, между 7 и 8 часами вечера, когда я только заступил на дежурство, комендант дома Юровский (он командовал охраной) приказал мне собрать у охранников все револьверы системы «Наган» и принести их ему. Я забрал двенадцать револьверов у часовых и у некоторых охранников и доставил их коменданту. Юровский сказал мне: «Сегодня вечером мы должны всех их расстрелять, так что предупреди охрану, пусть не беспокоятся, если услышат выстрелы». Я понял – Юровский решил расстрелять всю царскую семью, а также доктора и слуг, которые жили с ними, но я не спросил его, где и кто будет это решение исполнять. Должен сказать вам, что по приказу Юровского мальчика, который помогал на кухне, утром перевели в караульную в доме Попова. Нижний этаж дома Ипатьева был занят латышами из латышской коммуны, которые заняли это помещение после того, как Юровский стал комендантом. Всего их было десять человек. Примерно в десять вечера, в соответствии с приказом Юровского, я сказал охранникам, чтобы они не беспокоились, если услышат стрельбу. Около полуночи Юровский разбудил царскую семью. Не знаю, объяснил ли он им причину, по которой их разбудили и куда-то ведут, но я точно утверждаю, что именно Юровский зашел в помещения, занятые царской семьей. Юровский не приказывал ни мне, ни Добрынину будить ее. Примерно через час вся семья, врач, горничная и обслуга поднялись, умылись и оделись. Как раз перед тем, как Юровский пошел будить царскую семью, в дом Ипатьева прибыли два члена Чрезвычайной комиссии (Екатеринбургского Совета). Вскоре после часа ночи царь, царица, четыре их дочери, горничная, доктор, повар и официант вышли из своих комнат. Царь нес наследника на руках. Император и наследник были в солдатских гимнастерках и в головных уборах. Головы императрицы и ее дочерей оставались непокрытыми. Впереди шел император с наследником на руках. Императрица, ее дочери и другие следовали за ним. Юровский, его помощник и два вышеупомянутых члена Чрезвычайной комиссии сопровождали их. Я тоже присутствовал. При мне никто из членов царской семьи не задавал никаких вопросов. Они не плакали и не кричали. Спустившись на первый этаж, мы вышли во двор и через вторую дверь (считая от ворот) прошли в подвальный этаж здания. Когда все оказались в комнате (примыкавшей к кладовке с запечатанной дверью), Юровский приказал принести стулья, и его помощник доставил три стула. Один достался царю, второй царице, а третий – наследнику. Царица села у стены под окном, рядом с черной арочной колонной. За ней стояли трое из ее дочерей. (Я очень хорошо знал всех в лицо, потому что видел их каждый день, когда они гуляли в саду, но не знал по именам.) Наследник и царь сидели рядом почти в самой середине комнаты. Доктор Боткин стоял за спиной наследника. Горничная, очень высокая женщина, стояла слева от дверей, ведущих в кладовую, а рядом с ней – одна из царских дочерей (четвертая). У стены, слева от входа в подвал, устроились двое слуг.
Горничная держала подушку. Царские дочери тоже принесли с собой маленькие подушечки. Одну положили на стул императрицы, другую – на стул наследнику. Казалось, что все они догадывались, какая судьба их ждет, но никто из них не издал ни звука. В этот момент в помещение вошли одиннадцать человек: Юровский, его помощник, два члена Чрезвычайной комиссии и семеро латышей. Юровский приказал мне выйти, сказав: «Иди на улицу, посмотри, есть ли там кто-нибудь, и подожди, чтобы проверить, будут ли слышны выстрелы». Я вышел во двор, который был окружен забором, но еще до того, как оказался на улице, услышал выстрелы. Я тут же вернулся в дом (прошло всего две или три минуты), и, едва только войдя в комнату, где происходила казнь, я увидел, что все члены царской семьи лежат на полу и тела их покрыты многочисленными ранами. Когда я вошел, наследник был еще жив и тихо стонал. Юровский подошел и выстрелил в него два или три раза. Царевич остался лежать недвижимо.
От этого зрелища и от запаха крови меня замутило. Раньше, когда Юровский раздавал револьверы, один он дал мне, но, как я говорил, участия в убийстве я никакого не принимал. После расстрела Юровский приказал мне привести кого-то из охраны, чтобы смыть кровь в комнате. По пути в дом Попова я встретил двух старших из охраны, Ивана Старкова и Константина Добрынина. Они бежали по направлению к дому Ипатьева. Добрынин спросил меня: «Николая II расстреляли?» Я ответил, что Николай и вся его семья расстреляны. Обратно я привел с собой в дом двенадцать или пятнадцать охранников. Они погрузили трупы в кузов грузовой машины, которая ждала у выхода; тела выносили на носилках, сделанных из простыней и жердей, найденных во дворе. Когда их погрузили в грузовик, трупы покрыли солдатскими шинелями… Члены Чрезвычайной комиссии заняли места в грузовике, и он уехал. Я не знаю ни в какую сторону, ни куда доставили тела».
Трупы отвезли к заброшенной шахте под Екатеринбургом. Здесь их полили купоросом и сожгли. В течение нескольких следующих дней были перебиты и другие члены царской семьи. 25 июля чешский легион взял Екатеринбург и выяснил, что царская семья исчезла.
Новости об убийстве царя дошли до Ленина, который в конечном итоге приказал арестовать тех, кто имел к этому отношение; позже пятерых человек казнили.
В марте 1918 года война с Германией подошла к позорному концу, ознаменованному Брест-Литовским миром. В соответствии с ним большая часть российских владений на западе страны отошла к Германии. Подписание этого договора едва не раскололо большевистскую партию, и даже такие ее преданные сторонники, как матрос-революционер Дыбенко, из-за него отошли от Ленина. Филипп Прайс, корреспондент «Манчестер юнайтед», весной 1918 года выехал из Петрограда, чтобы посмотреть, как страна относится к новому правительству и почти невыносимым условиям жизни, которые стали итогом непростых лет.
«В середине марта Брест-Литовский мирный договор был ратифицирован центральной властью и Закон о земле прошел Центральный Исполнительный комитет. Северная и Центральная Россия получили передышку. Каким образом страна может воспользоваться ею? Имеют ли Советы в далеких провинциях достаточно влияния и престижа, чтобы приступить к плану социалистической реконструкции, намеченному Великим съездом? Желая посмотреть, какие ответы есть на эти вопросы, я решил посетить Вологодскую губернию, где, возможно, смогу хоть немного оправиться от тягот жизни в голодающем Петрограде. Любому, кто видел эти сцены в Петрограде и вдоль железнодорожных путей на восток, нелегко было их забыть. Старая царская столица эвакуировалась. День за днем с вокзала в Петрограде уходили поезда, груженные музейными сокровищами, золотыми резервами банков, ценными запасами металлов с предприятий. Другие поезда были переполнены беженцами из районов, занятых Германией, демобилизованными солдатами старой армии, бродячими бандами красногвардейцев, голодными рабочими и безземельными крестьянами, которые надеялись получить новую землю на востоке. На каждой станции Советы местных железнодорожников или рабочих издавали свои приказы, назначали своих комиссаров и почти не обращали внимания на требовательные и молящие телеграммы от центральных Советов из Петрограда и Москвы. Порой отряды красногвардейцев захватывали целый поезд, высаживали пассажиров и заставляли машиниста везти их в том или ином направлении. Немалое количество таких отрядов Красной гвардии отказывались признавать центральную власть, которая ратифицировала Брест-Литовский договор, и продолжали вести партизанскую войну против немцев в западных губерниях. Самый известный из таких отрядов возглавлял Дыбенко, неустрашимый большевик, балтийский матрос, который вместе со своими товарищами моряками и рабочими кронштадтских верфей объявил себя «независимым» от правительства, подписавшего «позорный мир», – и продолжал вести войну. Из-за чего и был арестован красногвардейцами, верными Советам Москвы и Петрограда, а также ЦИК. Он предстал перед революционным трибуналом, но тот всего лишь пожурил его. Потом уже его армия прошла большую часть Западной и Юго-Западной России, захватывая по пути поезда и завершив свой путь в Крыму.
Повсюду были видны следы, которые на этой земле оставил мятежный дух. Не было больше ни землевладельцев, ни кадетов-банкиров, которые могли бы протестовать, а были захватчики-немцы, для которых их собственные договора были всего лишь «клочком бумаги», и были комиссары от Советов в Москве и Петрограде. Последние представляли власть, а власти в те дни были достойны лишь проклятий. Пламя, которое столетиями тлело под поверхностью земли, вырвалось наружу. Дали знать о себе первобытные мощные инстинкты мести классовым угнетателям, которые позволили грабить, убивать и насиловать беззащитную буржуазию. В памятных строках писатель, левый эсер (речь идет о поэте Александре Блоке и о его знаменитой поэме «Двенадцать», которая упоминалась в начале книги), описал дух этих дней. Двенадцать красногвардейцев куда-то бесцельно движутся. Они уже освободили бывшего директора банка от его меховой шубы и описывают один другому девушек, которых они встречали в разных городах, способы, которыми они обрекали их на смерть в пароксизмах ярости, где граничили любовь и ненависть. Эти люди были олицетворением духа, который в те дни вздымался из адских глубин.
Политическая революция завершилась, но Россия была только на пороге огромной экономической и социальной революции, которая идет еще и сегодня. Кто мог представить себе, что и во второй половине XX века России придется иметь дело с бесконечными проблемами разрухи, преступности, пьянства и отчаяния, которые в 1918 году пришли в большие города из сельской местности?
Из Данова пришло сообщение, что разгромлен дворец бывшего рязанского губернатора… Мебель и предметы искусства в нем стоили миллионы рублей… Сожжены картины знаменитых художников… Крестьянки расхватали севрские вазы и хранят в них сметану… Фермы разграблены, чистопородный скот разогнан… Широко распространились пьянство и грабежи… В некоторых случаях крестьяне вступали в драки между собой.
Погромы и разорение, которые начались в марте, в Тульской и Самарской губерниях продолжаются до сих пор. Ни одна из усадеб в Тульской губернии не избежала участи полного или частичного разграбления… Потери сельскохозяйственной техники, скота и запасов зерна составляют примерно тридцать миллионов рублей.
Сходная ситуация и в Симбирской губернии. Среди потерянных памятников искусства – дом историка Карамзина… вилла князя Куракина, в которой хранилась редкая коллекция гравюр. Благодаря австрийским военнопленным удалось спасти один дом в поместье Куракина… В Пензенской губернии ярость толпы была так велика, что усадьбы и дворцы были преданы огню со всем своим содержимым…
В некоторых местах крестьяне организовывались для защиты поместий. Это же происходило и в казацких землях…
Наш железнодорожный вагон пробирался по Сибири… Мы уже привыкли к «коммунистическому» режиму в Петрограде, но то, что делалось в провинции, на железнодорожных путях и на вокзалах, было просто невероятно. Язык бессилен описать этот хаос, анархию, за которые отвечали банды головорезов, прожженных преступников и недавних заключенных, которые теперь называли себя большевиками… Милиция во всех городах была разогнана, и ее место заняла Красная гвардия… Появление этих подонков… неизбежно становилось сигналом к грабежам, убийствам и конфискации меховых шуб у пассажиров (последнее было особенно популярно в Сибири).
Что представляли собой те элементы, из которых набиралась Красная гвардия? В маленьких городках всех их знали по именам, а громкое название Красной гвардии было позаимствовано из словаря преступников… Эти уголовные элементы еще недавно скрывались в подполье… а теперь, пользуясь защитой советских властей, вынырнули на поверхность. Они получили оружие, постоянную зарплату… и стали заниматься своими делами на законном основании. Особенное предпочтение они отдавали дорогам, которые вели с вокзала в город… Слово «большевик» стало синонимом «грабителя», «вора», «убийцы» и так далее…
То, как темные массы натравливали на тех, кто думает по-другому, в отличие от большевиков, было просто чудовищным… На каждом митинге вы могли слышать угрозы в адрес меньшевиков и социалистов-революционеров, которых называли «кровопийцами», «жирными буржуями» и т. д. Во многих случаях было трудно понять, чего на самом деле хотят эти новорожденные большевики. Они издавали лишь дикие вопли, призывающие к убийствам, грабежам и т. п.
Почти все зерно перегонялось на водку. Практически в каждой деревне было от пятнадцати до двадцати самогонных аппаратов. Рожь продавалась по цене от сорока пяти до пятидесяти рублей за пуд, но если ее дома перегнать… то она могла принести вдвое больше. Самогона гнали столько, что его хватало и для местного потребления, и на продажу… Его производством были заняты все, а порой даже члены исполнительных комитетов. Доводилось слышать такие замечания: «Что это за свобода, если человек не может выгнать для себя бутылку водки?..»
Под влиянием крепких напитков люди грабили поместья, сводили государственные и частные леса. Власти в губерниях были совершенно не в состоянии справиться с положением дел, о чем свидетельствует следующая история. Комиссар одной из губерний узнал, что в деревне Карповцы есть немало самогонных аппаратов и что дезертиры убивают и грабят. Собрав отряд из ста солдат и чиновников, он двинулся на место. Прибыв примерно в два часа утра, он окружил деревню и начал обыск. Собаки и куры подняли тревогу, деревня всполошилась, и дезертиры попрятались. Поиски самогона доказали, что в деревне нет ни одного дома, где не было бы бутылки-другой. Было обнаружено и немалое количество перегонных аппаратов. К тому времени обыск подошел к концу, солдаты перепились и стали брататься с местными, заявляя, что защищают «свободу» и «испуганное население».
Были задержаны шестнадцать дезертиров, но шестьдесят солдат исчезли…
В деревнях шла «большая пьянка». В сельскую местность отправлялись экспедиции, чтобы обеспечивать «национальное богатство», как называлась водка… У этих экспедиций были на вооружении ружья, револьверы и дубинки. Нередко они отправлялись в соседние деревни, и тогда завязывались настоящие сражения. В порядке дня были дикие пьяные оргии. Пили старики, молодые люди, женщины и дети. Даже малышам давали алкоголь, чтобы они спали и не мешали пить своим родителям. В пьяных компаниях царили распущенность и азартные игры. Быстро распространялись венерические болезни… Тиф стал частым гостем в деревнях. Началась продажа наркотиков, гарантированного лекарства от всего. Хотя стоили они недешево, покупатели были…
Деревню наводнили бумажные деньги… и, не зная, что с ними делать, крестьяне пускались в азартные игры. Любимой было «двадцать одно». За вечер тысячи рублей меняли хозяев.
Отсутствие закона и порядка привело к появлению банд грабителей, воров и насильников… Ответственность за все беды деревни возлагалась на «буржуев»… а также за отсутствие соли, сахара и всего прочего…»