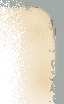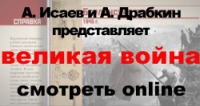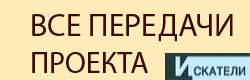Глава 1. Детство, гимназические и студенческие годы
Эти отрывочные воспоминания не могут претендовать на полную биографию моего покойного брата, ни со стороны фактической, ни с точки зрения освещения его душевного склада, так как мы жили вместе лишь в детстве и учились в разных средних учебных заведениях, а затем на разных факультетах Московского университета. И так как я никогда не вел никаких записок и писал эти воспоминания лишь в 1941 году, когда мне было уже 75 лет и прошло более полстолетия со времени нашей молодости, то многое улетучилось из моей памяти и «не много лиц мне память сохранила» и тем менее дат. Кроме того, у меня под руками почти не было печатного материала. Поэтому в первой части моего очерка мне пришлось более описывать бытовую обстановку и общественную атмосферу, среди которых складывалась и протекала жизнь моего брата.
Мы с моим братом Павлом Дмитриевичем были близнецы. Родились мы в Царском Селе 9 мая 1866 года. По внешности мы были очень похожи друг на друга, нас и потом посторонние часто смешивали, а новорожденных нас невозможно было различить. После крещения, как гласит семейное предание, Петру была над коленкой повязана красная шерстинка, но шерстинка эта потом будто бы развязалась и незаметно упала на пол. Увидавшая это кормилица, испугавшись, не знала, с которого из младенцев она упала, и повязала ею первого попавшегося. Таким образом, мы, может быть, всю жизнь носили не принадлежавшие каждому из нас имена.
Когда нам было всего несколько месяцев, родители наши переехали в Москву, в купленный старинный большой двухэтажный особняк, около строившегося тогда храма Спасителя. Дом этот со своими толстыми стенами и сводами нижнего этажа, уцелевший от пожара двенадцатого года, был с многими надворными постройками, двумя большими дворами и огромным садом, выходящим на три улицы. Приблизительно в те же годы переехали из Петербурга в Москву и некоторые другие семьи, нам родственные или близкие. В конце шестидесятых и в семидесятых годах в известных придворно-гвардейских кругах высшего петербургского общества вообще наблюдалась некоторая тяга в Москву, как центр русскости и славянофильского течения. В начале семидесятых годов вызвала много шуму статья Ивана Сергеевича Аксакова под заглавием «В Москву», которая говорила о желательности возвращения столицы из Петербурга в Москву и являлась протестом против западничества и оторванности от народа петербургского периода русской истории. Можно вообразить, как перевернулся бы в гробу Аксаков, если бы мог узнать, что его призыв был осуществлен большевиками! Коренными москвичами были и идеологи только что проведенных великих реформ: братья Самарины, князь Черкасский, Кошелев, с которыми и с их семьями, а равно и с эпигоном славянофильства И.С. Аксаковым наша мать, урожденная графиня Орлова-Давыдова, поддерживала дружественные отношения. Будучи детьми, мы забегали иногда на так называемые «швейные вечера» моей матери. Один раз в неделю по вечерам у нее собиралось несколько десятков дам шить для отправляемых в Сибирь семейных арестантов, из находящейся около нашего дома пересылочной тюрьмы. Обыкновенно во время работы что-нибудь читалось вслух. Помню, как И.С. Аксаков однажды читал отрывки из только что написанной им поэмы «Бродяга»: «Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всенощной, к молитве благостной…» Читал он нараспев, немного в нос, кадансируя и подражая благовесту. В эту тюрьму, называемую Колымажным двором, вследствие того что там помещались когда-то колымаги, то есть экипажи паря Алексея Михайловича, наша мать имела постоянный доступ и оказывала отходящим в Сибирь и звенящим кандалами и с наполовину обритыми головами каторжанам материальную и духовную помощь. Вместе с ней работала очаровательная старушка монахиня мать Маргарита из Вознесенского монастыря, находившегося в Кремле, который был также от нас недалеко. На месте Колымажного двора выстроен был впоследствии музей императора Александра III. Мы все детство с матерью посещали кремлевские старинные церкви, особенно прелестную церковь Спаса на Бору, а на Страстной неделе кремлевские соборы с их уставными богослужениями и чудным синодальным хором. На Святой заутрене мы бывали в дворцовой церкви Рождества Богородицы возле старинной Грановитой палаты, откуда смотрели на кишащую народом сначала темную соборную площадь, а затем, когда в полночь раздавался гулкий удар в колокол на Иване Великом, на который сразу откликались звоны сорока сороков московских церквей и вся площадь заполнялась огоньками тысяч зажженных свечей, – на гирлянды крестных ходов вокруг соборов и многочисленных замоскворецких церквей. Наша мать воспитывалась в строго религиозной православной семье, но с некоторым протестантским уклоном, идущим от одной из наших прабабок – графини Келлер, создательницы благотворительных полумонашеских городских и деревенских женских общин. По переселении в Москву наша мать вошла целиком в московскую церковно-православную жизнь и посещала, часто вместе с нами, богослужения некоторых священников, например известного тогда своим красноречием о. Ключарева, впоследствии харьковского епископа Амвросия. Особенно близки мы были с умным и сердечным о. Иоанном Иванцовым-Платоновым, нашим духовником, профессором Московского университета и настоятелем церкви Александровского военного училища. Припоминается его чтение 12 Евангелий, когда он и сам и многие из стоящих рядом юнкеров, и из многочисленной публики плакали.
После разных бонн и гувернеров, главным образом прибалтийских немцев, у нас много лет был гувернером коренной москвич, очень образованный и пропитанный славянофильской идеологией П.И. Шаповалов.
Лет до девяти ходили мы в русских рубашках, а зимой в тулупчиках и меховых шапках. Летом мы ездили в наше родовое подмосковное майоратное имение Волынщина, Рузского уезда. Там стены комнат нижнего этажа старинного дома были увешаны портретами наших предков по долгоруковской линии, исполненными большей частью известными французскими портретистами. В доме и на дворе были выставлены отличия и военные трофеи наших предков. А в приусадебной церкви, находящейся возле самого дома, возвышались их грандиозные надгробные памятники, начиная со сподвижника Екатерины князя В.М. Долгорукова-Крымского. В Волынщине мы играли с крестьянскими мальчиками, по будням в бабки, а по воскресеньям устраивали сражения со штурмом двух враждующих крепостей, устроенных на обрывах находящегося в парке оврага. Осенью мы обыкновенно ездили в подмосковное имение нашего деда Орлова-Давыдова Отрада, Серпуховского уезда. Там в огромном дворце екатерининских времен были плафоны, изображающие морские победы графа Орлова-Чесменского, разные фамильные реликвии и в семейном склепе могилы пяти братьев графов Орловых. Дедушка граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов воспитывался в Оксфордском университете и был англоманом не только по воззрениям и привычкам, но и по наружности. Читал постоянно огромные листы Times. Он был хорошим хозяином и одним из крупнейших русских землевладельцев. В сороковых годах он подавал императору Николаю I записку о желательности освобождения крестьян от крепостной зависимости, но по английскому образу, то есть в качестве безземельных арендаторов. За эту записку его было предложено выехать на несколько лет из России.
Тринадцати лет я поступил в находящуюся близ нашего дома 1-ю Московскую классическую гимназию, где раньше учился и наш старший брат, в то время уже студент историко-филологического факультета. Он находился под влиянием славянофильского течения, дружил, как и мы, с младшим поколением Самариных и во время Русско-турецкой войны, будучи студентом 1-го курса, поехал с товарищем своим по гимназии и университету П.Н. Милюковым санитаром в московский лазарет на Кавказском фронте. Брат же Павел не захотел изучать классических языков и поступил в очень хорошую частную реальную гимназию Фидлера. И надо сказать, что он ничего не потерял, не поступив в казенную классическую гимназию, которая незадолго перед тем претерпела реформу министра графа Д.А. Толстого, заключавшуюся, между прочим, в том, что из ее программы было исключено совсем естествознание.
Между тем брат имел тяготение как раз к естественным наукам. Для того чтобы иметь возможность поступить в университет на естественный факультет, он по окончании реального училища подготовился в течение года к сдаче экзамена зрелости, занимаясь древними языками с двумя отличными преподавателями славившейся тогда в Москве частной гимназии Поливанова Никольским и Колосовым. Они оба были русские, в отличие от большинства преподавателей древних языков – чехов, наводнивших тогда казенные гимназии. В большинстве премилые люди, чехи, однако, придерживались немецкого схоластического и грамматического метода преподавания в ущерб ознакомлению учащихся с красотами античной культуры. Эта так называемая «гимнастика ума» должна была дисциплинировать мозги молодежи и заглушать в ней вольнодумство.
В университете мы – 18-летние юноши, после смерти матери и отъезда отца на постоянное житье в имение, – очутились на полной свободе, обладая притом достаточными средствами. Это повлияло отчасти на то, что мы отдали, может быть, слишком много нашего времени на 1-м курсе традиционному московскому студенческому буршеству с его Татьяниными днями, «Стрельнами,» «Ярами», цыганскими хорами и тройками. Это был первый год только что введенного нового университетского устава, долженствовавшего также дисциплинировать молодежь при помощи инспекторов, педелей, форменных тужурок, мундиров и шпаг. Но молодежь продолжала бурлить, и студенческие истории стали еще чаще, с закрытием на некоторое время университета, с пощечиной инспектору Брызгалову на студенческом концерте в Благородном собрании, с шумными и многолюдными студенческими сходками, с загоном студентов казаками в находившийся против университета экзерциргауз (манеж) и с избиением студентов мясниками Охотного ряда, находившегося также около университета. Мы с братом держались в стороне от студенческого движения и были скорее зрителями или свидетелями его. И хотя нам претили нововведения нового университетского устава, но нам противна и жалка была и разъяренная распропагандированная студенческая толпа с большой примесью нестуденческого элемента, пользующегося ею как пушечным мясом. И как понятно нам было то, порою очень острое раздражение против студенческой толпы, которое позже, почти через двадцать лет, испытывал первый, со времени введения нового устава, выборный ректор Московского университета, князь С.Н. Трубецкой, жизнь свою положивший за университет и его автономию в борьбе с тупой революционностью снизу и реакцией сверху. Помню, как однажды бывший в наше время попечителем Московского учебного округа граф Капнист вызывал к себе нас с братом наряду с некоторыми другими студентами для выяснения причин беспорядков. Вряд ли из этих достаточно-таки бесплодных разговоров удалось ему что-либо выяснить. Да, пожалуй, и нам самим тогда не вполне была понятна природа парившей среди нас неурядицы. Если, очевидно, и была идущая извне пропаганда, преследующая на почве академических беспорядков свои политические цели, то она находила почву среди зеленой, восприимчивой и экспансивной молодежи, как это бывает всегда, когда отцы не могут в нормальных условиях заниматься политикой, критикой и легальной оппозицией и быть, что называется, «оппозицией его величества», а не «его величеству». А например, в Англии студенты занимаются учением и между прочим подготовлением к серьезному занятию политикой посредством практики в ораторском искусстве, устройства показательных парламентских заседаний и т. п. Свободное же время и избыток молодых сил они употребляют на гребной и другие виды спорта. Мы с братом из области спорта увлекались только что появившимися тогда английскими велосипедами с большим передним колесом и маленьким задним.
В учебном отношении естественный факультет, в отличие от историко-филологического, на который поступил я, почти не потерпел от введения нового университетского устава. Состав профессоров был очень хорош. Особенно славился тогда профессор ботаники Тимирязев. На старших курсах брат сосредоточился главным образом на занятиях по зоологии, по преимуществу у приват-доцента Мензбира, а также у профессора Богданова и специально у профессора Зографа по ихтиологии. Под руководством последнего он основал на Анофриевском озере, находящемся вблизи от нашего подмосковного имения, научную ихтиологическую станцию, функционировавшую до самой большевистской революции. Не знаю, функционирует ли она и теперь. И самые последние шаги брата на родине, перед оставлением ее с врангелевской эвакуацией из Севастополя, случайно связаны с ихтиологией, так как вследствие царившей тогда в Севастополе жилищной тесноты он ютился в сыром нежилом помещении научной морской ихтиологической станции, находящейся близ Графской пристани, откуда отчаливали все отходившие суда и катера. Из нашей студенческой жизни вспоминается одна наша проделка. Пользуясь нашим сходством, я дважды на протяжении одной недели держал экзамен по богословию, один раз за себя, другой за брата – у протоиерея Сергиевского, читавшего свой курс для студентов всех факультетов, одинаково почти не посещавших его лекций. Он не только никогда никого не проваливал на экзаменах, но даже не ставил отметки ниже четверки тем, которые почти ничего не могли ответить.
В студенческие годы мы с братом в летние каникулы предприняли несколько поездок для изучения России. Так, мы ездили на пароходе по Волге, по лесистой Каме и по живописной быстрой Чусовой, а потом по железной дороге через Урал в Екатеринбург, где в то время была промышленная выставка. Из Екатеринбурга мы ездили на Тагильский и Исетский металлургические заводы и любовались чудными уральскими лесами. Во время этой поездки мы тоже выкинули одну студенческую проделку. Вскоре по отходе парохода из Нижнего нас, юнцов с еле пробивающимися бородками, пригласили какие-то типы играть в винт «по крупной». Увидев это, буфетчик сжалился над нами, отозвал одного из нас и шепнул, что это известная шайка пароходных шулеров. В винт они нам проиграли более 300 рублей, может быть нарочно, и потом старались вовлечь нас в азартную игру, но мы после полученного предупреждения забастовали и таким образом перехитрили шулеров. В Казани вся эта компания поодиночке вышла, причем один, имевший южный тип, надел большие темные очки. Однажды летом мы отправились на Кавказ. (Нижеследующее описание поездки через Главный Кавказский хребет я привожу по случайно сохранившемуся у меня моему черновому наброску, сделанному для писавшейся тогда истории Нижегородского драгунского полка.) Находясь на Минеральных Водах, мы сошлись с офицерами этого полка. Командир его князь Васильчиков предложил нам принять участие в качестве «военных корреспондентов» в военной поездке 15 офицеров и 75 нижних чинов. Мы должны были пройти из Кисловодска в Сухум с перевалом через Главный хребет по первобытным вьючным тропам для рекогносцировочного исследования, в целях проложения шоссейной дороги на Сухум через Главный хребет. За десять лет до этого, во время Русско-турецкой войны, Сухум, лежащий на побережном шоссе и окруженный горами, подвергся обстрелу турецких судов и, не имея путей сообщения внутрь страны, был отрезан от подвоза снарядов, войсковых подкреплений и провианта. Тогда еще не было Военно-Сухумского шоссе, для проведения коего впоследствии, вероятно, воспользовались исследованиями нашей экспедиции. Мы купили двух верховых лошадей и одну вьючную. Отряд сопровождал известный тифлисский фотограф Ермаков с несколькими фотографическими аппаратами. На одной из вьючных лошадей везли заряды с пироксилином для взрыва непроходимых скал. С нами ехал проводником пожилой отставной полковник-осетин в черкеске и папахе, на муле, знавший эту часть Кавказа. По мере продвижения мы брали еще местных проводников. Путь до Сухума продолжался десять дней. Сначала мы ехали по недурным каменистым проселочным дорогам холмистого предгорья чрез осетинские аулы. При приближении к Главному хребту горные кряжи поднимались все выше, а в глубине долин журчали быстрые потоки. На вершинах лесистых гор стали попадаться развалины старинных православных церквей и монастырей особого кавказского стиля. Начал чувствоваться Лермонтов. Переправившись вброд чрез верховье Кубани, на которой стоял сравнительно большой аул с остатками Тибердинского укрепления, мы вошли в узкую долину ее горного притока реки Тиберды. Селений больше не встречалось. Сначала изредка попадались отдельные жилища, а затем лишь шалаши пастухов, пасших коз и овец. По мере того как мы поднимались на Главный хребет, природа становилась все суровее. Дремучий и высокий лес с поваленными могучими гниющими стволами и вывороченными корнями стал редеть, мельчать, перешел в низкий кустарник и наконец совсем исчез. Ночевали мы под открытым небом, кутаясь в бурки, зажигая костры, пока был лес. Небольшой запас сучьев для согревания чая мы везли последние два дня с собой. По мере того как мы поднимались, воздух все свежел. Вдалеке, в горных складках, стал виднеться снег. Плохая и узкая проселочная дорога перешла в тропу, по которой мы большею частью шли пешком, ведя в поводу лошадей и перескакивая с камня на камень. И только наш проводник невозмутимо ехал на своем муле, почти не слезая с него. Наша тропа то шла вниз по ущелью вдоль клокочущего и заглушающего человеческий голос потока, то круто поднималась, иногда зигзагами, на большую высоту, и тогда мы пробирались по узкому карнизу между отвесной скалой и крутым обрывом, на дне которого еле виднелся поток, казавшийся бесшумным ручейком. В нескольких местах для расширения пешеходной тропы или для устранения слишком больших камней приходилось прибегать к пироксилину. В одном месте сорвалась вьючная лошадь фотографа с одним из аппаратов и с частью негативов, и мы видели, как она летела в пропасть, перевернувшись несколько раз в воздухе. Альбом сохранившихся чудных видов, вероятно, пропал при разгроме нашего имения большевиками.
Взятая нами провизия стала истощаться, осталось лишь несколько бурдюков кахетинского вина. И вот, наткнувшись на последнюю стоянку пастухов, многие из нас, как солдаты, так и офицеры, бросились доить коз, а кроме того, запасаться козьим сыром и кукурузными лепешками. Дальше и травы не стало, и мы шли по голым скалам, порою скользким от налетавших ливней или от тающего снега. Поражала полная тишина и отсутствие шума деревьев или птичьего щебетания. Наконец мы вступили в область вечного снега. Мы шли то по довольно широкому снеговому полю горного кряжа, то сравнительно узким ущельем, утопающим в глубоком снегу и с блестящими ледяными сосульками на выдающихся скалах. Порою приходилось пробивать путь в снегу и льду лопатами и кирками, раз проделали туннель в большом снежном обвале. 14 июля мы достигли самого высокого пункта Клухорского перевала около 9600 футов высоты, с небольшим Тибердинским озером, из которого среди снегов и под снеговыми туннелями водопадом низвергалась река Тиберда. По озеру плавали льдины. При ослепительном солнце снег не таял. Со времени вступления в область снегов большинство офицеров надевало для предохранения глаз дымчатые очки, а солдаты по старому кавказскому обычаю обводили глаза темно-серыми кругами пороха, что придавало им какой-то трагический и устрашающий, театральный вид. Это будто бы притягивало к себе, а от глаз рассеивало ослепляющие солнечные лучи. При продолжающейся мертвой тишине, при ясной солнечной погоде и при отсутствии какой бы то ни было растительности в пейзаже были лишь три очень определенные краски: белый сверкающий снег, обнаженные части скал, кажущихся от снегового контраста черными, и темное-темное синее небо. Невольно вспоминались строки из «Мцыри»: «Небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог, он так прозрачно был глубок, так полон ровной синевой!» К этим основным трем цветам присоединялся здесь темно-изумрудный цвет прозрачной воды глубокого Тибердинского озера. После короткого привала мы тронулись по довольно длинной снежной котловине и затем стали спускаться на южный склон Главного хребта вдоль верховья Цебельдинского потока, прорывающегося среди массы снега и снеговых глетчеров и обвалов. Те же путевые трудности, что и при подъеме, только по мере спуска и усиления действия солнечных лучей ноги людей и лошадей стали то скользить по мокрым скалам, то тонуть в рыхлом снегу. Скоро снега прекратились, стала появляться растительность, но уже совсем другая, более яркая, буйная и разнообразная, с массой вьющегося плюща и каких-то других лиан. В зелени деревьев щебетало много птиц с ярким оперением. Через несколько часов, ниже, мы прошли через остатки деревни, покинутой, судя по развалинам минарета, магометанским населением. Большинство населения этого края, девять лет тому назад, после Русско-турецкой войны, ушло в Турцию. В запущенных садах были спелые плоды слив, персиков и грозди зреющего уже винограда, которые мы срывали, не слезая с лошадей. Ночевали мы уже в небольшой абхазской деревне, откуда на следующий день пошли более отлогой проселочной дорогой для двухколесных арб, запряженных большею частью рогатым скотом. Шли мы целый день, спускаясь среди буйной и казавшейся нам тропической растительности, большая часть которой была вечнозеленая. Но край был опустевший, и не только от последствий войны и вероисповедных разногласий, но и от другого бича этого, казалось бы, земного рая: массы мошкары и зловредных комаров – распространителей губительной малярии, называемой здесь сухумской лихорадкой. Несколько человек нашей экспедиции заболело этой изнурительной болезнью, и двое офицеров впоследствии даже умерло. Идя по долине все той же речки, мы вышли наконец к берегу Черного моря и, поднявшись немного на север по шоссе, вошли в Сухум, носивший еще следы разрушения от обстрела с морских судов в 1876 году. Из Сухума мы совершили поездку в расположенный на берегу моря Ново-Афонский монастырь, произведший на нас благоприятное впечатление своей культурной хозяйственной деятельностью и, между прочим, замечательным фруктовым садом, достигшим в десятилетний срок удивительных размеров. После нескольких дней отдыха в Сухуме экспедиция двинулась в обратный путь, но уже другим маршрутом для исследования удобопроходимости другого перевала. Мы распростились с нашими военными друзьями и продали им наших трех лошадей, которые им заменили погибших или пострадавших в походе. На обратном пути мы посетили Батум, Абас-Туман и Тифлис. В Тифлисе мы накупили восточных ковров, подушек и разного оружия, украшавших потом кабинет моего брата в нашем московском доме. Из Тифлиса мы поехали до Владикавказа по Военно-Грузинской дороге, на которой тогда еще не было автомобилей и по зигзагам и крутым поворотам горного шоссе лихо неслись перекладные почтовые тройки, содержимые богатой татаркой. По окончании нами университета в 1889 году я поступил вольноопределяющимся в Нижегородский драгунский полк, знакомый нам по сухумской экспедиции, а брат был освобожден от воинской повинности, так как одним глазом почти ничего не видел вследствие отложения сетчатки, случившейся у него неизвестно по какой причине. Для определения болезни его положили почему-то на несколько дней в военный госпиталь и одели даже в казенное белье и халат.
<< Назад
Вперёд>>
Просмотров: 3082